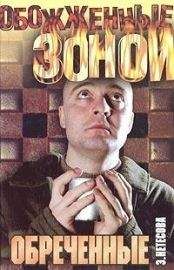Баба смутилась. Вспомнила, зачем пришла сюда, ответила скупо:
— Что делать? В жизни всяк на свою судьбу похож. Иного не бывает, — взялась за ведро и пошла к морю.
— Антонина! Подожди! Дай помогу! — взял ведро из рук бабы. И мигом набрал в него ракушек доверху.
— Вот, возьмите. Только не дробите их молотком. Осколки опасны. Положите их под доску и походите по ней. Ракушки сами в песок разлетятся, — посоветовал бабе.
Та удивилась, откуда он знает, как дробит она ракушки, но спрашивать не стала, чтоб не нарваться на очередную отповедь. Она поблагодарила за помощь и собралась идти домой, но Ефим сказал:
— Я сейчас приду к вам, покажу, как печь замазать. Потом сами будете это успешно применять.
Тонька не нашла повода отказать мужику. И, вздохнув, поставила ведро; стала ждать, когда Короткое наберет медуз.
Вскоре он просеял песок во дворе дома и, сделав вязкий раствор, обмазал им печку, разгладил руками, смоченными в морской воде. И посоветовал затопить печь не ранее чем через пару часов. Сам обошел дом, сарай, побывал на чердаке, в подвале, и сказал; что дом уже всерьез требует хозяйских рук. Мужских.
Но Тонька на это ничего не ответила и Короткое, отказавшись от ужина и чая, сослался на занятость и ушел.
А через три дня хотел спасти Антонину от волков, да едва сам не стал добычей.
Пока она болела, времени даром не терял. Все в доме привел в порядок. Оставалось лишь стянуть полы. Доски рассохлись и в щели из подполья несло в дом сырость, холод.
Но Тонька, едва оправившись после нападения волков, никак не восприняла его заботы и словно раздумывала, стоит ли пользоваться помощью Короткова и дальше. Это обидело человека. И он ушел, не сказав, зайдет ли еще раз, навестит ли семью?
Он даже не знал, какое письмо пришло им из Москвы. Не знал и о том, что живет теперь эта семья с надеждой, и ей уже нет дела до разъехавшихся полов.
Ефим через пару дней ушел на лов корюшки вместе со ссыльными мужиками. Возвращался поздно. И не видя к себе интереса со стороны Антонины, уходил домой, решив не набиваться в мужья насильно.
Антонина теперь думала только о возвращении в свое село. Она уже душою давно вернулась туда. И совсем забыла о Короткове, решив, что возвращаться домой надо налегке. Зачем ей привозить в село человека, которого и сама не знает. Он даже тут изводит ее своими моралями. Все выговаривает, учит жить. Не зная — понукает. А разве ей не хватило через край своего горя? Ведь ни разу не поинтересовался, как она жила до него? Не пожалел. Лишь высмеивает. Пусть один на один. А разве не обидно?
"Тонька теперь ждала лишь почтальона, который должен принести ей весть о воле, и вовсе не интересовалась жизнью Усолья, а потому пропустила мимо внимания случившееся с Бобылем.
Внезапно приехавший с проверкой Волков вошел в дом Короткова, увидел портреты и потребовал, чтобы ссыльный вот так же изобразил передовиков рыбокомбината. Чтобы повесить эти портреты в фойе клуба.
Ефим отказался, сославшись, что по заказу это не делается, дескать, он не профессиональный художник. И портреты людей, далеких от его мировоззрения и восприятия, рисовать не будет.
Михаила Ивановича оскорбил категорический отказ Короткова. Он этого никак не ожидал и затаил злобу на Ефима, которого считал своею собственностью. На следующее утро, едва Короткое вышел из столовой и пришел на берег, его забрали в милицейский катер.
— Почему отказались выполнить работу, порученную представителем власти? — вприщур смотрели на Ефима глаза следователя.
— Я не художник.
— Своих уголовников рисовать — художник, а нормальных, гордость нашего поселка — не можете? Это что еще за мировоззрение у вас объявилось, которое мешает рисовать передовиков? — едва сдерживался следователь.
— Наши ссыльные близки мне по судьбе и по духу. Они вдохновили. Я знаю их, как самого себя. Потому и получились портреты. Людей незнакомых — не сумею. Нет вдохновенья. Не поднимутся руки.
— Это почему?!
— Я — любитель! Я не профессионал. На заказ не работал.
— Это не заказ! Это требование! — сдвинул брови следователь.
— Художнику, да еще любителю, приказать нельзя. Вдохновенье не приходит по приказу. Оно, как песня, как птица, не спрашивает когда появиться, — убеждал Ефим.
— Ничего! Оно у тебя появится! Придет! Рад будешь день и ночь малевать! А то видите ли, не по вкусу ему наших ударников рисовать. Не только их, даже черта рад будешь изобразить у меня, раз приказано! — вызвал дежурного и скомандовал:
— В одиночку его!
Ефима втолкнули в камеру, в которой ни лечь, ни сесть не было возможности. Тусклая лампочка еле тлела в проволочной авоське. Со стен на бетонный пол шлепались жирные мокрицы. Осклизлые, в темно- зеленых, бурых пятнах, эти стены видели немало узников. Каждого оплакали слезами сырости, запахами плесени и прелости. Сюда не проникали лучи света, звуки жизни. Словно здесь хотели поставить туалет, да забыли в спешке. Либо, примерившись, поняли, что поскупились на площадь, никто здесь не сумел бы отправить нужду с комфортом. Так и осталась эта немыслимая клетушка на муки за чей-то просчет.
Ефим стоял, боясь прикоснуться к стене, чтоб не измазаться, не испачкаться в сырой грязи, плесени. С потолка на голову ему падали вонючие, мутные капли. Одна соскочила на темя и потекла за ухо длинной слезой. Потом вторая. Холодная…
Ефим чувствовал, как его пробирает озноб. Холод медленно сползал от плеч к коленям, и все тело налилось какою-то свинцовой усталостью. Коротков оперся спиной на стену. По плечам побежали тонкие струи воды.
Сколько часов он простоял здесь, задыхаясь от сырости? Ноги отказывались держать тело и подламывались в коленях. Но человек терпел.
Когда-то, в воркутинской зоне, за невыполнение нормы выработки начальство зоны кинуло Короткова в штрафной изолятор, который все зэки звали — шизо. Там было плохо. В бетонной камере скучилось много зэков. Негде было лечь. Зато хватало чурбаков, на которых сидели люди. Это была свирепейшая из зон.
А здесь — почти свобода… Ефим нащупывает осклизлую стену, пытается изменить позу, но рука соскользнула, человек ударяется лбом в угол. Больно. Рассек кожу. По лицу кровь сползает каплями. Давно хочется есть. Но попросить, значит — согласиться с милостью. А этого не желает человек. И продолжает стоять, уперевшись ногами в карниз одной стены, спиной — в другую.
Он даже дремал. И, кажется, видел сон. О чем он был? Вроде, Ирина Блохина прислала ему письмо.
Странно. Он давно не ждал от нее писем и, кажется, стал забывать женщину. А Ирина (вот ведь разгулялось воображение!) звала его приехать к ней. Насовсем. На правах мужа. Клялась; что любит его и любила всегда.
«Ирина… Замерзающая на ветру девчонка… Ты стала матерью. Но не смогла стать женщиной, женою Никанора. Слишком поздно поняла ошибочность выбора. А и он — Ефим, тоже не подарок. И с ним в жизни солнца мало бы увидела», — думает Бобыль, переминаясь с ноги на ногу.
В каменном мешке человек давно потерял счет времени, забыл, где находится дверь. Она давно не открывалась. От глухой тишины звенело в ушах. Словно его заживо погребли в склепе. Только неизвестно за что…
Ефим силился вспомнить лицо Тони. Но никак не может воспроизвести его целиком. Все вспоминается по частям. Сморщенные, собранные в пучок губы будто приготовились к плевку. Потный, облупившийся от ветров нос, прищуренные, недоверчивые глаза, полуоткрытый зубы, через какие того и гляди выскочит…
— Эй, ты, заморыш, живой еще? Ну, давай, двигай следом, задохлик вонючий! — то ли привиделось, то ли послышалось Ефиму.
Он огляделся по сторонам. Резкий луч света воткнулся в глаза. И тот же насмешливый голос сказал хохоча:
Я думал, ты сам уже плесенью стал. А глянь! Живой и дыбается! Силен! За всю неделю ни разу не стукнулся! Иль шибко гордый? Ну, иди, иди! — подталкивал Короткова, совсем разучившегося ходить.
Он плелся, тащился вдоль стены, опираясь на нее плечом. Из глаз, отвыкших от дневного света, текли слезы.
Как много места здесь — в коридоре. Можно лечь во всю длину тела, выпрямить ноги и выспаться. Впервые за все это время. И спать, спать, до самой смерти. Не вставая, не шевелясь, не просыпаясь.
— Как же он выжил? — услышал Короткое над собою чей-то изумленный голос, когда упав, не смог встать обессиленный, и уснул на полу.
Засыпая, он улыбался. Он никому, никогда не расскажет, даже под пытками, как на пятый день, измученный жаждой и голодом, ел мокриц, покрывших стены каменного мешка сплошным слоем. А может не голод, а отупение, нахлынувшее на человека, заставили натуру смириться и довольствоваться тем, что оказалось под рукой.
— Я ж думал, что он сдох. Уже собирались его в машину и подальше отвезти. Теперь, что с ним делать? — спросил следователь милиции — начальника.