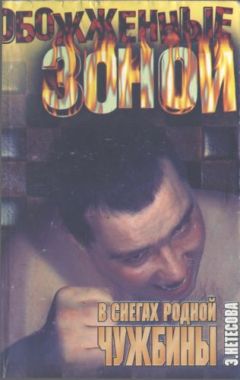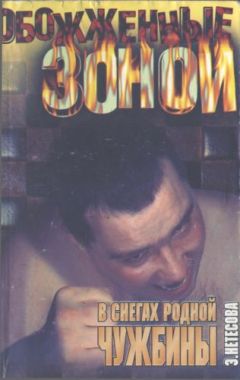— Ложитесь спать пораньше. Сегодня у вас температура повысилась. Нервничали? — беспокоился тюремный врач.
— Доктор! Не возитесь со мной. Сделайте укол, чтоб враз все кончилось! Ведь нет шансов. Сгорел! Зачем тянуть! Когда-нибудь все равно уходить, — попросил Пан.
— Кто вам такое говорил? Ваша болезнь поддается лечению. Уже кровохарканья стали меньше. Температура снижается. Конечно, не за неделю, но через месяц, другой будем говорить о серьезных результатах.
— Смеетесь? — не поверил Пан.
— Посмеемся вместе: Дайте время, — ответил врач. И, сделав укол, вышел из палаты.
«Неужели это не хана?» — удивлялся Пан, разглядывая себя в зеркало каждую неделю. Он и впрямь стал поправляться. Теперь не походил на черта из карьера.
Иногда он видел в окно Борьку, проходившего мимо больницы. Охранник не смотрел в его сторону. И не заходил. Но о Пане не забывал ни на минуту. Он будто караулил день, когда фартовый выйдет из больницы.
Но шли недели. И врач не отпускал законника в барак, сетуя, что холода могут плохо отразиться на больном, испортят весь результат лечения. И администрация зоны не торопила.
Пан вышел из больнички, когда во дворе зоны полностью растаял снег. Его привели в барак, предупредив, что через три дня для него найдут посильную работу.
К удивлению фартовых, Пан не возмутился, услышав о работе. Молча кивнул головой и занял шконку поближе к печке.
— Все ж выходили? Одыбался? Или стемнили? Чахотку просто так не одолеть, — боялись подходить близко фартовые.
— Оклемался! Кого-то чахотка жмурит. Но фартовых ей не одолеть, — ответил он, смеясь.
— А Медведь?
— Прохватило его, когда уснули в ту ночь в бегах. Он всегда грудью на землю ложился. По старой привычке, чтоб легче смыться в случае шухера. Смерть и застремачила. Прохватила колотуном. И хана. Накрылся кент. Так и в карьере многие загнулись, — ответил Пан.
— Вякни, как там наши дышат? — попросили фартовые, насмелившись, подошли совсем близко. Сели вокруг печки и шконки Пана. Этот на своей шкуре испытал. Живым пришел. Уж он не стемнит: решили законники послушать того, кому верили и кого слушали все «малины» Охи.
Пан с лица потемнел, вспоминать не хотелось. Но законники ждали…
Бывший пахан рассказывал о себе. Скупо. Руки сжимались в кулаки до хруста. Он не замечал, как предательские слезы катились по щекам, падали на грудь.
— Это моя пятая ходка на Колыму. Но никогда, нигде не забывал я званье фартового. Никто не мог заставить меня вкалывать, пахать, как работяги. Сдохнуть? Но ведь в карьере откинули копыта пачки фартовых. Кто их вспомнил? Кого они проучили? Сожгли, как сявок, как говно. Там званье не спрашивают. Никто от своей пайки не отвалит. И на бузу не подобьет. О ней никто не думает. Чуть шаг в сторону, «маслина» в спину и за карьер унесут охранники. Там нет шансов на волю. Кто влетел туда, считай жмуром.
— А что ж фартовые? Иль вместе не могут слинять С карьера? Кучей? Перебить охрану на хрен и ходу! Всех не перестреляют, кто-то выживет!
— Бесполезняк! Зэка — в карьере, охрана — наверху. С собаками! Чуть шаг на выход из карьера, «маслина» в лоб. Собрались вместе трое, стреляют над головой. Не разбежались, второй очередью всех покосят. День и ночь под прожекторами. Как гниды на виду. Ни жить, ни сдохнуть без надзора. И так все время.
— А пурга? В нее слинять могли?
— В пургу слинять? Пытались, как же! Трое скентовались при мне. Да только не слиняли далеко. В пяти километрах от зоны накрылись. Не жравшие, без харчей, в тряпье, через какое всякий холод душу достает, померзли сразу. На бега силы нужны. Хамовка и барахло. Где их возьмешь в карьере? Они свежаков, всех вновь прибывших, неделю в голоде держат. Чтобы вымотался скорее, баланду раз в неделю дают. Какой побег? Охрана, когда троих замерзшими нашла, так и оставила в распадке. Фартовых волки разнесли после пурги. Никто не закопал. Ну, а нам тот побег боком вылез. Неделю получали по половине пайки хлеба. Чуть выжили. Хорошо, что двое накрылись с голоду. Ночью. Сожрали…
— А как же прожекторы? Иль не засекла охрана?
— Засекла! Куда от нее денешься? Да только отнять уже стало нечего. В секунды растащили по кускам.
— Фартовых?
— Кого кто спрашивал? Не я, другой бы схавал тот шмат, что мне обломился. Кайлом кромсали. Вначале я не мог. Потом… куда деваться? Хавал, как все. Первым к жмуру подскакивал, чтоб не успела охрана вытащить наверх. Они вначале отнимали откинувшихся. А потом не стали. Себе же забот меньше. Только номер жмура забирали, чтоб из списка вычеркнуть. Бывало, не могли дождаться, пока ослабшие накроются…
— Мать твою! Живьем сжирали?
— Добивали. А уж потом…
— А Жмот как пригрелся там?
— Он не особый! Карьер дышит без паханов. Там один на всех бугор — смерть. Уж кто влетел в карьер, ее не минет…
— И что, никого оттуда на волю не выпустили?
— Нас с Медведем сюда! Да и то не воля!
— Другие разве не болели?
— Еще как! Но за ними проколы были. То охрану кто-то материл, грозился ей. Иль в пса углем швырнул за брех. Иль базлал на весь карьер, требуя хамовку или робу. Другие — норму не дотягивали. Мы с Медведем по полторы давали. Другие не могли.
— А это верняк, что там нет шконок и бани?
Пан оглядел фартовых, ответил глухо:
— Удобства — на погосте, но даже на них жму- рам карьера рассчитывать не приходилось. Какие шконки, бани? О них во-сне вспоминали, — отмахнулся законник и потянулся к чаю, поданному сявкой. Сделал глоток. На лице блаженство расцвело улыбкой… Лицо, собранное в морщинистый кулак, оскалилось, обнажив белесые в гнилых пятнах десна. Изо рта пахнуло зловонием.
— Хавай! — подсунул кто-то кусок хлеба, сахар. Сявка дал папиросу, отнятую у обиженника.
— Выходит, на карьер — что в деревянный ящик сыграть? — спросил кто-то тихо.
— О том лишь помечтаешь, — ответил Пан.
До вечера он рассказывал фартовым о кентах, попавших на карьер из этого барака, что стало с каждым из них. Кто жив еще, кого сожгли, кого сожрали.
Фартовые слушали, изредка перебивая Пана вопросом.
А ночью даже те, у кого нервы были железными, долго не могли уснуть, вспоминая услышанное.
Утром в барак пришел Борис. И сказал, чтоб слышали все законники:
— После завтрака кто не выйдет на работу, будет отправлен в карьер…
— Ишь, падла! Грозишься нам? — зашумели законники.
Охранник спокойно оглядел всех. И продолжил:
— На размышленье — пятнадцать минут. Потом будет поздно…
Пан, услышав о карьере, задрожал. И, забыв о завтраке, натянул на себя телогрейку, влез в сапоги, вышел первым на перекличку.
Фартовые нехотя потянулись за ним. А Пан, испугавшись карьера, даже слушать не захотел о воровском законе, запрещающем работу.
И все же после завтрака не все фартовые построились на работу. Часть сказалась больными, иные откровенно отказались.
И тогда не выдержал Борис, которому Тихомиров отдал барак фартовый в полное распоряжение.
— Всем сачкам в машину! Карета подана! — указал Борис на крытый грузовик, стоявший неподалеку от барака.
Охранники стояли у дверей, оружие на всякий случай наготове.
— Шевелись! — Борис сорвал со шконки законника и первым отправил к машине.
— Кенты! Очухайтесь! Не сейте мозги! — крикнул Пан, уходящий под конвоем на работу.
В этом крике был страх за тех, кто, слушая его, не поверил…
Десятка два фартовых нагнали строй, натягивая на ходу телогрейки. Но семерых увезла машина на карьер. Тихомиров решил навсегда покончить в зоне с законами воров, сломать их упрямство.
Борис следил за работой фартовых, не жалея, не щадя никого из них. Не оставлял без наказания даже малейшее неподчинение.