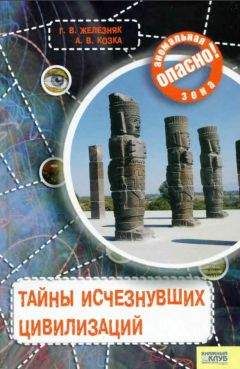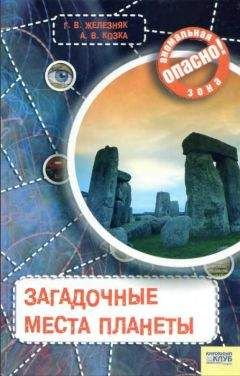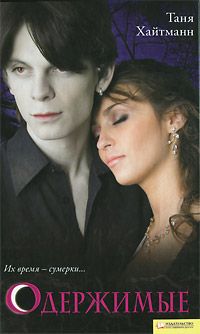своего деда, и не приходится удивляться, что в результате он был предан, а царствование его сокрушено. Затем прибывает Вильгельм Голландский – в облаках зловещего и чуждого аромата. Я бы не стал утверждать, что такие кальвинисты являют собой отрицание кальвинизма, – но, право слово, есть что-то странное в том, что история дважды подряд повторяется самым неестественным и нежелательным образом, вопреки всякой логике и вкусу. А к тому времени, как мы дойдем до Анны и первого из безликих Георгов, речь о королях уже вообще не идет. Князья торговли оказались превыше всех прочих князей; Англия возвела на престол прибыль и сделала символом веры капиталистическое развитие, и нам остается наблюдать, как последовательно сменяют друг друга «национальный долг», «Банк Англии», «полпенни Вуда», «Компания Южных морей» и все прочие учреждения, столь характерные для правительства бизнесменов [121].
Я не готов обсуждать на этих страницах, хорошо или плохо современное состояние дел как таковое: с его международными космополитическими трестами, его сложным и практически засекреченным от общества регулированием финансов, его наступлением машин и отступлением как частной собственности, так и личной свободы. Я лишь собираюсь выразить интуитивную мысль, что, даже если оно очень хорошо, все же что-то могло быть еще лучше. Нет нужды отрицать, что в определенном смысле мир прогрессирует, что в нем становится больше места порядку и филантропии, однако имею право озвучить свои подозрения, что мир, возможно, мог продвинуться в этих вопросах намного дальше и быстрее. И я думаю, что северные страны, именно они, продвинулись бы намного дальше и быстрее, если бы филантропия опережала все остальные дисциплины, опираясь при этом на мощную поддержку философского учения, подобного тому, которое развивали Беллармин [122] и Мор; если бы она начала свой путь непосредственно из эпохи Возрождения, не будучи искажена и отсрочена угрюмым сектантством семнадцатого века. Но в любом случае, великие моральные устои современности, такие как опционные покупки, спекуляция зерном, слияния и поглощения компаний, – все это не будет затронуто моей маленькой литературной фантазией. И, наверное, я могу избежать привлечения к ответственности за растрату несколько часов своего неэффективного существования на мечты о событиях, которые могли бы произойти (хотя детерминисты тут же скажут мне, что никогда не могли), и в попытке реконструировать этот еще до постройки обветшавший храм для князя героев и королевы, завоевавшей столько сердец.
Возможно, есть события, которые слишком велики, чтобы произойти, слишком грандиозны, чтобы пройти через узкие врата возможностей. Ибо этот мир чересчур мал для души человека, а после того, как мы покинули Эдем, сам небесный свод оказывается недостаточно обширен, чтобы покрыть влюбленных.
Перевод Григория Панченко
Мафусаилит
Недавно я прочитал в газете о забавном случае, наводящем на глубокие философские размышления. В Портсмуте один человек завербовался в солдаты, и некий опросный лист, который, как я полагаю, положено заполнять в подобных случаях, помимо всего прочего, требовал назвать свое вероисповедание. И этот человек с торжественным спокойствием написал в соответствующей графе слово «мафусаилит». Тот, кто просматривал документы, как мне представляется, сталкивался с множеством странных религий, иначе какая же это, к чертям собачьим, армия. Однако, при всем своем немалом опыте, он не смог поместить мафусаилизм в ту область, которую Боссюэ [123] называл уклонениями протестантских церквей. Он ощутил жгучее любопытство и решил разузнать о догматах и целях этой секты. Солдат ответил, что его религиозные убеждения состоят в том, чтобы «жить как можно дольше».
Рассматривая данный случай в рамках истории религии, нельзя не отметить, что ответ этого солдата представляет большую ценность, чем сотни возов ежемесячных, еженедельных и ежедневных газет, обсуждающих религиозные проблемы. Каждый день в газетах рассказывают о новом философе, основавшем ту или иную новую религию, и во всех двух тысячах слов, размещенных на двух полосах, меньше остроумия и глубокомысленности, чем в одном этом слове «мафусаилит». Весь смысл литературы заключается в том, чтобы попросту сократить повествование, вот почему современные философские трактаты нельзя считать литературой. А этот солдат воплотил в себе сам дух литературы: он проявил себя одним из величайших пустословов современности, наравне с Виктором Гюго или Дизраэли. Одним единственным словом он сумел выразить всю сущность современного язычества.
Впредь, когда ко мне будут приходить новые философы со своими новыми религиями (а они постоянно выстраиваются в очередь к моим дверям вдоль всей улицы), я смогу предвосхищать их разглагольствования этим вдохновенным словом. Как только первый из них начнет: «Я построил свою новую религию на основе первичной энергии природы…», я резко оборву его: «Мафусаилизм, всего доброго». Другой скажет: «Человеческая жизнь – единственная в мире безусловная святыня, свободная от догм и символов веры…» «Мафусаилизм! – выкрикну в ответ я. – Ступайте прочь!» «Моя религия – это религия радости, – заявит третий (измученный кашлем лысый старик в темных очках), – религия телесного восторга и гордости…» «Мафусаилизм!» – снова воскликну я и грубо хлопну его по спине, так что он повалится с ног. Затем юный бледнокожий поэт с завитыми волосами скажет мне (как один уже сказал всего несколько дней назад): «Впечатления и эмоции – вот единственная подлинная реальность, но они непрерывно и всецело меняются. Исходя из этого, я вряд ли сумею дать определение своей религии…» «Зато я сумею, – скажу я с некоторой угрозой в голосе. – Ваша религия заключается в том, чтобы жить как можно дольше, и если вы немедленно не замолчите, то уже не добьетесь своей цели».
В целом новая философия на практике означает превознесение какого-либо старого порока. Одни софисты оправдывают жестокость, называя ее мужественностью. Другие защищают разврат, называя его свободой чувств. Третьи поощряют праздность, называя ее творчеством. Уже почти неизбежно – и это можно почти безошибочно предсказать, – что эта вакханалия приведет к тому, что рано или поздно какой-нибудь софист захочет идеализировать и трусость. И когда мы окажемся в больном мире безответственных слов, много ли будет нужно, чтобы свидетельствовать в пользу трусости? «Разве наша жизнь не прекрасна и ее не стоит спасать?» – скажет солдат, убегая с