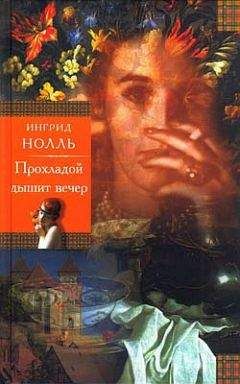Она собиралась уже бежать, держа в руке ключ, чтобы скорее укрыться у себя дома, как вдруг кто-то крикнул:
— Селита!
Она резко остановилась и произнесла:
— Идиот!
Ибо это был голос Эмиля. Он успел переодеться в служебном помещении. На нем были джинсы и легкая куртка, в которой он, должно быть, замерзал.
Он торопливо преодолел, пока она поджидала его, несколько метров, которые их еще разделяли.
— Чего ты хочешь?
— Ничего. Я увидел Мари-Лу со своим швейцарцем и подумал, что вы будете возвращаться одна…
Они шли рядом, Эмиль все время подпрыгивал, как он это делал, подсовывая проспекты под «дворники» автомобилей.
— Я думала, что ты возвращаешься домой в Канн на велосипеде…
Его отец погиб на войне, и он жил в Канне с матерью, которая работала уборщицей.
— Я не обязан этого делать… — сказал он, не вдаваясь в объяснения.
Не надо было обладать особой прозорливостью, чтобы догадаться после его дневных признаний, на что он надеялся. И Селита спрашивала себя, что же ей делать. У нее напрочь отсутствовала материнская струнка, какая была, например, у Мари-Лу, которая, несмотря на свои двадцать пять лет, обращалась с мужчинами, в том числе со своим почтенным банковским уполномоченным, как с большими младенцами.
Не было у нее и того любопытства, которое вызывало у Наташи при виде мальчика желание как-нибудь между прочим отведать это диковинное лакомство.
Селита же чувствовала себя неловко, потому что она не хотела причинять зла Эмилю и одновременно сама немного побаивалась его. В «Монико» он, конечно, находился в самом низу иерархической лестницы, но именно по этой причине его не стеснялись, и он все видел, все слышал, был, между прочим, единственным из персонала, кто бывал даже в квартире у хозяев.
Был ли он уже уверен, что добьется своего? Во всяком случае, Эмиль не говорил об этом.
— Вы, кажется, были сегодня великолепны, мадмуазель Селита.
— Кто тебе это сказал?
— Да все. Мне это очень приятно было слышать, я ведь заранее знал, что так и будет. Я даже держал пари с Людо.
— Ты держал пари на то, что я извинюсь?
— Я держал пари на то, что вы не будете таить злобу против них. Вы не такая, как они. Все это придумала Наташа. Ей нельзя верить. Другие не так умны, как она, чтобы быть по-настоящему злыми. Кстати, я уточнил насчет доктора в Ницце. Смотрел он мадам Флоранс.
— Как ты узнал?
— Да потому, что это специалист по женским болезням.
— Гинеколог?
— Да, это именно то слово, я прочитал его в телефонном справочнике, но не запомнил.
Они добрались до площади, где торговка овощами закрывала ставни своей лавки и где какой-то араб спал, сидя на скамье, положив под голову согнутую руку. У Франсины горел свет.
— Вы ушли, оставив окно открытым, — заметил Эмиль.
Это было действительно так. Покидая днем квартиру, Селита была не в том настроении, чтобы думать об окне.
— На первом этаже. Вы не должны были так оставлять… Кто угодно мог влезть…
Она посмотрела на него, делая усилие, чтобы не рассмеяться, ибо она угадала его хитрую уловку.
— Ты, значит, боишься за меня?
— Представьте себе, что вот тот тип со скамейки мог бы пойти спать в квартиру, а то и ограбить ее…
— Но он этого не сделал, ты же видишь.
— Но он не один такой.
— И ты предлагаешь зайти со мной, чтобы убедиться, что все в порядке?
За минуту до этого он тоже улыбался, весело перекидывался с ней словами.
Но как только Селита поставила ногу на порог, лицо Эмиля стало напряженным.
Видно было, что он так сильно взволнован, что вот-вот разрыдается.
— Я вас умоляю, мадмуазель Селита…
Ей очень хотелось сказать «нет», но у нее не хватило духу. Совсем еще недавно у Леона, когда он обращался к Мадо, было точно такое же умоляющее выражение лица, как у Эмиля. И она готова была дать голову на отсечение, что у него не хватило терпения ждать завтрашнего дня и что, даже не боясь бурной сцены с мадам Флоранс, он отправился в отель де Ля Пост.
Она в нерешительности застыла, держа руку на ключе, уже всунутом в дверь.
— Я уйду, если вы захотите, очень скоро… И даже…
Он колебался, прежде чем произнести это обещание, но решил, что все же это лучше, чем ничего.
— …и если вы потребуете, я до вас даже не дотронусь.
Она открыла дверь, и, нажав кнопку освещения, оставила ее открытой. Он вошел и закрыл дверь за собой. Она повернула направо по коридору, чувствуя, как он дрожит от волнения сзади нее.
Вторым ключом она открыла квартиру, вспомнив, что все там оставлено в беспорядке и постели не застелены.
Не пускать Эмиля уже было невозможно, и это вызвало у нее чувство горечи.
— Мой бедный Эмиль, — вздохнула она, включая свет, — я боюсь, что ты будешь разочарован, увидев, как живут женщины, когда они предоставлены сами себе.
С охватившей ее внезапной яростью женщина распахнула ванную комнату, где не была спущена вода в ванне, а на полу валялись мокрые полотенца и салфетки.
— Смотри…
Она зажгла свет в столовой, осветив остатки утреннего завтрака на столе и чашки с кофейной гущей.
— И здесь…
Две незастеленные постели, мятые простыни, подушки со следами губной помады, сероватые в тех местах, где лежала голова, а в раковине мокли приготовленные для стирки дамские трусики.
— Ты не потерял желание остаться?
Она сбросила свое легкое пальто на стул, сбросила с ног туфли, и пока Селита поглаживала свои натруженные ноги, бедный дурачок произносил как молитву:
— Я вас люблю… (лава пятая В начале вечера они все неверно оценили ситуацию, в том числе и Селита, которая, правда, не сразу поверила, ибо знала, что удача обычно отворачивается от нее. В баре «У Жюстина», куда они пришли вместе с Мари-Лу, за столом сидели уже Наташа и Кетти. Поскольку рядом с ними оставались свободными только два места, Селита не решалась садиться, полагая, что одно из них предназначено Мадо.
— Не думаю, что она придет, — сообщила ей Наташа. — Поэтому я и не просила ставить пятый прибор.
Что-то явно произошло. Об этом свидетельствовал их возбужденный вид.
Наташа продолжала говорить:
— Я два раза звонила ей в отель, и оба раза мне ответили, что ее там нет.
Я даже зашла за ней. Хозяйка мне сказала, что Мадо ушла в полдень, не позавтракала и ничего не сказала; с тех пор ее не видели.
В девять часов тридцать минут все четверо, одна за другой, чинно входили в «Монико», напоминая воспитанниц из пансиона благородных девиц. Каждая поочередно приветствовала мадам Флоранс, которая, как показалось Селите, очень скверно выглядела. В девять тридцать пять наверху, в артистической, где они переодевались, готовясь к приему гостей, Мари-Лу посмотрела на часы и тихо сказала:
— Пятьсот франков!
Вскоре они уже сидели в разных местах зала, согласно инструкции, для того чтобы создавать видимость, будто начала прибывать публика. Под глазами мадам Флоранс были темные круги, и в ее взгляде читалась та особая тревога, которую испытывают люди, ожидающие, что в любой момент возобновится приступ острой боли. Это напомнило Селите о том, что хозяйка посещала гинеколога в Ницце.
Она было подумала, что Флоранс беременна, но маловероятно, чтобы это произошло впервые на сороковом году жизни.
Должно быть, она испытывала острые боли внизу живота, коль скоро ездила на прием к гинекологу. Почти половина женщин, которых знала Селита, подверглись операции. У большинства был вырезан яичник. Ей это внушало жуткий страх. Само слово «живот» обладало для нее таинственным, почти мистическим смыслом, и она ничего так не страшилась, как увидеть в один прекрасный день на своем животе шов фиолетового цвета.
Мсье Леон, находясь у входной двери, не мог не знать, что Мадо не пришла.
Он также не мог не видеть те взгляды, которыми обменивались женщины, поглядывая друг на друга из разных уголков зала. Два раза он выходил на тротуар к Эмилю.
Без четверти десять… Без десяти… Издалека Мари-Лу четко, хотя и тихим голосом произнесла:
— Тысяча франков!
Селита обратила внимание, что хозяин был выбрит с особой тщательностью, что около ушей еще оставалось немного талька, на нем — светлый галстук, которого она никогда прежде не видела. Если бы он не был так заметно взволнован и если бы Мадо находилась здесь, то Селита была бы уверена, что он уже побывал у нее и добился чего хотел.
Селита ошибалась, в чем вскоре не замедлит убедиться. Вошла одна пара.
Это были завсегдатаи и садились всегда около оркестра. Хотя мужу и жене было лет по пятьдесят пять, их прозвали Филимон и Бавклида, так как весь вечер они держались за руки, улыбались друг другу и обменивались лишь изредка одной-двумя фразами, как бывает только у старой семейной четы, когда один понимает другого без слов.
Джиажнини играл для них вальс тридцатилетней давности, который они заказали в первый день. Он, должно быть, вызывал у них нежные воспоминания.