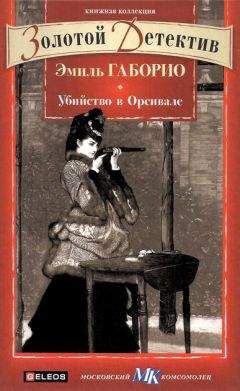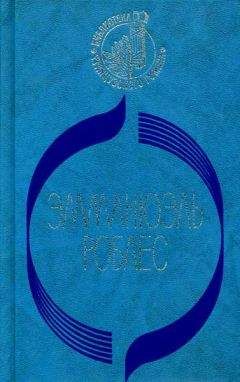— В каком смысле? — поинтересовался папаша Планта.
— Да очень просто, господин мировой судья. Я думал, что понял преступников, изучил их, как свои пять пальцев, в начале работы это главное, но теперь не узнаю своих воображаемых противников. Кто они — круглые дураки, великие хитрецы? Вот над чем я ломаю голову. Мне казалось, что, разгадав уловки с постелью и с часами, я отчетливо представляю себе меру их изобретательности и возможности их ума. Переходя методом дедукции от известного к неизвестному, я путем несложных умозаключений мог бы, казалось, предугадать все, что они способны изобрести с целью отвлечь наше внимание и сбить нас с толку. Если принять это за исходную точку, то мне. чтобы узнать истину, оставалось только предполагать всякий раз обратное тому, что я видел. Я рассуждал так:
Топор найден на третьем этаже — значит, убийцы умышленно отнесли его туда и бросили.
На столе в столовой они оставили пять бокалов — значит, их было либо больше, либо меньше, но только не пятеро.
Труп графини обнаружен на берегу реки — значит, его отнесли туда с какой-то целью.
В руках жертвы найден лоскут материи — значит, его вложили сами убийцы.
Тело госпожи де Треморель изранено ударами кинжала и чудовищно изуродовано — значит, ее убили одним ударом.
— Браво! Браво! — вскричал папаша Планта, не скрывая восторга.
— Да нет, не «браво», — вздохнул Лекок, — здесь моя нить обрывается, и я упираюсь в пустоту. Если бы мои дедукции были верны, топор оказался бы попросту положен на паркет.
— И все-таки браво! — упорствовал папаша Планта. — Ведь это обстоятельство не более чем частность, которая ничуть не разрушает всю систему. Яснее ясного, что у преступников было намерение действовать именно так, как вы рассказали. Но им помешало нечто непредвиденное.
— Возможно, — вполголоса согласился сыщик, — возможно, ваше замечание справедливо. Но я заметил еще кое-что…
— Что же?
— Да так… Пока ничего не могу сказать. Прежде всего мне необходимо осмотреть столовую и сад.
Лекок и старый судья поспешно спустились, и папаша Планта показал полицейскому бокалы и бутылки, которые он велел отодвинуть в сторону.
Сыщик осмотрел бокалы один за другим, беря их в руки и поднося к глазам; он поднимал их к свету, изучая капли жидкости, оставшиеся на дне.
Окончив осмотр, он решительно объявил:
— Ни из одного бокала не пили.
— Неужели ни из одного?
Сыщик устремил на старого судью один из тех взглядов, которые проникают в самые сокровенные глубины души, и повторил, подчеркивая каждое слово веской паузой:
— Ни из одного.
Папаша Планта ответил только движением губ, означавшим, вне всякого сомнения: «Пожалуй, вы сильно продвинулись вперед».
Лекок улыбнулся и, отворив дверь столовой, позвал:
— Франсуа!
На зов прибежал камердинер покойного графа де Тремореля. На бедняге лица не было. Небывалый, неслыханный случай: слуга жалел и оплакивал хозяина.
— Послушай-ка, друг мой, — сказал сыщик, — обращаясь к нему на «ты» с тою фамильярностью, которая отличает людей с Иерусалимской улицы, — послушай и постарайся отвечать коротко, ясно и точно.
— Слушаю, сударь.
— Было ли принято в замке приносить из подвала вино заранее?
— Нет, сударь, я сам спускался в подвал каждый раз перед едой.
— Значит, в столовой никогда не бывало помногу полных бутылок?
— Никогда, сударь.
— Но иногда, должно быть, оставались недопитые?
— Нет, сударь; покойный господин граф разрешал мне относить вино, оставшееся после десерта, прислуге.
— А куда девали пустые бутылки?
— Я их ставил, сударь, в этот угловой шкаф, на нижнюю полку, а когда набиралось много, относил в подвал.
— Когда ты их относил в последний раз?
— Когда?… — Франсуа задумался. — Да уж дней пять-шесть будет.
— Ладно. Скажи-ка, какие ликеры предпочитал твои хозяин?
— Покойный господин граф, — на этих словах бедный парень прослезился, — почти не пил ликеров. Если же вдруг ему приходила охота выпить рюмку водки, он брал водку отсюда, из поставца над печью.
— Значит, в шкафах не было початых бутылок с ромом или коньяком?
— Нет, сударь, такого не было.
— Благодарю, друг мой, можешь идти.
Франсуа пошел к дверям, но Лекок окликнул его.
— Кстати, — бросил он как бы между прочим, — раз уж мы здесь, загляни-ка в угловой шкаф, все ли пустые бутылки на месте.
Слуга повиновался и, распахнув шкаф, воскликнул:
— Вот так так! Ни одной не осталось.
— Превосходно! — отозвался г-н Лекок. — А теперь, любезнейший, можешь идти на все четыре стороны.
Как только за камердинером затворилась дверь, сыщик спросил:
— Что вы об этом думаете, господин мировой судья?
— Вы были правы, господин Лекок.
Затем сыщик обнюхал по очереди каждый бокал и каждую бутылку.
— Ну что ж! — произнес он, пожав плечами. — Мои предположении снова подтвердились.
— И что на сей раз? — спросил старый судья.
— На дне этих бокалов даже не вино, сударь. Среди пустых бутылок, стоявших в шкафу, оказалась одна с уксусом, вот она, и преступники налили из нее в бокалы по несколько капель.
Он схватил один из бокалов и сунул его под нос папаше Планта, добавив:
— Извольте понюхать, господин мировой судья.
Спорить было не о чем: это был прекрасный уксус, с резким и сильным запахом. Преступники в спешке оставили улику, неопровержимо свидетельствовавшую о том, что они намеревались сбить следствие с толку.
Однако, проявив недюжинную изобретательность, они оказались неспособны спрятать концы в воду. Все их хитрости были, как выразился бы почтенный г-н Куртуа. шиты белыми нитками.
Правда, эти промахи можно отнести на счет спешки или какой-то неожиданной помехи. Один знаменитый полицейский недаром говорил, что у преступника на месте преступления пол горит под ногами.
Лекок был прямо-таки возмущен и уязвлен в своих лучших чувствах, как бывает возмущен истинный художник при виде грубой и претенциозной мазни самовлюбленного недоучки.
— Нет, это уже переходит всякие границы! — негодовал он. — Ишь, канальи, чего захотели! Но тут нужно быть большими хитрецами! Нужно суметь все выполнить чисто, черт побери! А это. слава богу, не каждому по зубам.
— Господин Лекок! Господин Лекок! — взывал к нему судья.
— Да что там, сударь, я ведь правду говорю. Если уж они такие простаки, оставались бы честными людьми — ведь это куда как проще.
И, вконец разъярившись, он проглотил сразу несколько пастилок разных сортов.
— Ну будет, будет, — по-отечески увещевал его папаша Планта, словно унимая плачущего ребенка, — не нужно сердиться. В самом деле, эти люди оказались не на высоте, это непростительно, но примем во внимание, что они никак не могли предположить, что столкнутся с таким проницательным человеком, как вы.
Лекок, тщеславный, как все артисты, не остался глух к комплименту и не сумел скрыть довольную гримасу.
— Так будем же снисходительны, — продолжал папа ша Планта. — Кроме того, — и он остановился, чтобы придать больше весу последующим словам, — кроме того, вы еще не все видели.
У г-на Лекока никогда нельзя было понять, когда он ломает комедию. Да он и сам этого подчас не понимал. Великий артист, весь во власти своего искусства, он приучил себя имитировать любые душевные движения, точно так же, как привык щеголять в любом костюме, и предавался этим упражнениям так добросовестно, что достиг в них полнейшего правдоподобия, и вполне вероятно, в глубине души он возмущался куда меньше, чем можно было подумать но выражению его лица.
Он бушевал, понося злодеев, он размахивал руками, но исподтишка зорко следил за папашей Планта и, услышав его последние слова, навострил уши.
— Что ж, продолжим осмотр, — сказал он.
И, прежде чем последовать за старым судьей в сад, Лекок бросил на портрет на бонбоньерке взор, в котором читались огорчение и разочарование.
«Черт бы его побрал, — взывал он к портрету, — черт бы побрал старого молчуна. Упрямца невозможно застать врасплох. Он скажет нам отгадку своего ребуса, когда мы сами ее найдем, не раньше. Он такой же хитрец, как мы, моя душенька, разве что опыта у него поменьше. Однако если он нашел то, что от нас ускользает, значит, он еще до нас обнаружил какие-то улики, о которых мы не знаем».
В саду все оставалось по-прежнему.
— Здесь, господин Лекок, — сказал старый судья, когда они шли по одной из аллей, полукругом спускавшейся к Сене, — здесь, на газоне, нашли туфлю бедняги графа; а там, чуть правее клумбы с геранью, валялся его шейный платок.
Они вышли на берег реки и с величайшими предосторожностями приподняли доски, которыми по приказу мэра были укрыты отпечатки на земле.