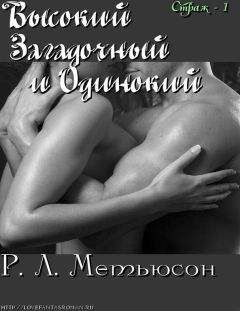Дальше наступила очередь Тони.
— Гас привез мне рукопись через два дня после того, как ее прочитала Мэг, потому что я работал редактором у Саттона. Он еще был жив. С Гасом и Мэг мы знакомы с незапамятных времен, но в их затею с агентством я не верил. У них не было денег, чтобы выжить и закрепиться в деловом мире.
— Ни гроша, — вставил Гас.
— До этого, — продолжал Тони, — он мне как-то приносил сборник рассказов, но их можно было печатать только как пародии. Я отдал рукопись одной из наших девиц, которую натаскивал на «первого читателя», экой элегантной девице, дочери одной богатой приятельницы Филиппы с Уолл-стрит. Ее отзыв был достаточно прохладным. Она училась на курсах английской литературы и относилась ко всем без исключения рукописям одинаково: исправляла грамматические ошибки и вымарывала любое необычное слово. Поручая ей рукопись, я сильно рисковал.
— Так Андре Жид отверг рукопись Пруста, — задумчиво проговорил Лептон. — У кого он тогда работал? У Галлимара?
— К несчастью, — продолжал Тони, — эта девица была намного образованнее нашей публики, для которой мы работаем, и мне приходилось внимательно читать ее отзывы. Первую книгу Амоса она оценила на «читабельно», но ее так и подмывало вычеркнуть все «чертовски», уменьшить количество «я бы» и «он бы» и заменить «лезть на рожон» — на «подвергать себя опасности». Ее преподаватели могли гордиться своей ученицей, но какой пехотинец говорит на ее безукоризненном языке? Кроме того, рядом с каждым неприличным словом она ставила знак вопроса.
Если она писала «читабельно», я всегда просматривал рукопись сам. Вечером я захватил ее домой, но Фил устроила вечеринку, потом нашлись какие-то дела, и я вспомнил о ней только через три недели. Мне позвонил Гас, и так как я чувствовал себя виноватым перед старым другом, то в тот же вечер сел ее читать. Я еще подумал, что бы сказать Гасу, если рукопись мне не понравится.
— Так вот, — Тони вздохнул, — у нас в Манхэттене не было жаворонков, да и небо никогда не радовало нас голубизной, но я читал всю ночь. Фургоны с молоком поехали по улицам, а я все читал. Признаюсь, я уже тогда подумал, что эта книга будет бестселлером. За завтраком я рассказал о рукописи Фил. Она очень обрадовалась, потому что всегда любила Гаса и Мэг и знала, как им трудно приходится. Она наливала в чашку кофе и вдруг сказала: «Почему бы не назвать роман „Никогда не зови к отступлению“? Ведь он о войне. А „Гроздья гнева“[6] — это уже было». Сначала я ее не понял, а потом до меня дошло…
— «Роланда рог трубил, что никогда не даст сигнала к отступленью…»[7] — промурлыкал Лептон.
— У меня дрожь пробежала по спине, и я сказал Фил, что она молодец. Пришел в контору и тут же позвонил Гасу, попросив его назначить автору встречу на три часа. Не прошло и пятнадцати минут, как Гас мне перезвонил и сказал, что у него возникло какое-то затруднение. Он хотел немедленно прийти ко мне. Когда я его увидел, мне показалось, что он похож на умирающую Венеру.
— И неудивительно! — воскликнул Гас. — Понимаете, рукопись пришла по почте. В обратном адресе не было ничего необычного. Я узнал номер телефона и позвонил. Мне ответил приятный женский голос: «Уиллоуз! Доброе утро». Я сказал, что хотел бы поговорить с мистером Коттлом, но в ответ услышал: «Пациентам не разрешается пользоваться телефоном. Вы можете навестить мистера Коттла в наши приемные часы, от двух до четырех». На мой вопрос, куда я попал, она ответила: «Это клиника. Вы родственник или знакомый мистера Коттла?» Я назвал себя, и девушка посоветовала мне обратиться к доктору Клинтону, что я и сделал. У доктора Клинтона был бесстрастный голос. Так, наверное, Бог говорит с букашкой. Он сообщил мне, что «Уиллоуз» — клиника для нервнобольных. Большинство его пациентов — алкоголики из обеспеченных семейств, но у него есть и несколько бесплатных пациентов, чья болезнь интересна для него с профессиональной точки зрения. Больным разрешается рисовать и писать, это полезно как трудотерапия. Да, он посоветовал Амосу Коттлу написать книгу, но он не знал, что тот отослал ее агенту. Должно быть, ему помог кто-то из посетителей.
Дальше стал рассказывать Тони:
— Кончилось тем, что мы с Гасом в тот же день поехали в клинику. Я знавал издателя, который опубликовал книгу человека, сидевшего в тюрьме, и не видел причин для беспокойства. К тому же я бы сам отправил в больницу некоторых известных писателей, так почему бы не сделать известным того, кто уже там находится? Сначала мне хотелось побольше узнать об Амосе Коттле, и мы пошли к доктору Клинтону.
Он очень удивился, узнав, что мы хотим издать роман Амоса, и обрадовался. Мне кажется, он гордился тем, что вылечил Амоса, да еще настолько, что тот смог написать книгу. Я спросил его, чем болен Амос, но он стал запинаться и что-то мямлить, пока я не заявил ему, что должен знать правду. Мне хотелось знать, будет ли Амос в состоянии писать еще или это, так сказать, одиночный выстрел.
Клинтон сказал, что не привык говорить о болезнях своих пациентов с посторонними, но в данном случае его оправдывает необычность ситуации. Потом он рассказал, что около двух лет назад Амос, весь окровавленный и с раной на голове, брел по шоссе, пока на него не наткнулся полицейский. По следам шин определили, что какую-то машину занесло и она сбила Амоса. Одежда на нем была вся в грязи. То ли из-за удара, то ли из-за выпитого, но Амос был невменяем. Полицейский утверждал, что Амос долго шел посреди шоссе, и все машины его объезжали, пока одну машину не занесло. Водитель, вероятно, испугался и удрал. Его так и не нашли. Это произошло четырнадцатого октября тысяча девятьсот пятидесятого года. Амоса привезли в ближайшую больницу. Врач поставил диагноз: сотрясение мозга, отягченное алкоголизмом. Он обработал рану, и, только после того как Амос проспался, полицейскому разрешили его допросить. По-видимому, Амос жил совсем в другом месте, в этом районе его никто никогда не видел. Ни документов, ни меток на белье у него не было. Через тридцать шесть часов полицейский пришел опять. Амос производил впечатление нормального человека, если не считать полную амнезию. Он не помнил даже своего имени.
— А Амос Коттл? — спросил Бэзил.
— Амос сам выбрал это имя, когда начал писать роман, — продолжал Тони. — Почему именно это, никто не знает. И хотя оно не очень подходящее для писателя, мы разрешили ему его оставить. Доктор Клинтон боялся, что любая перемена в жизни может быть для Амоса губительна. Он настаивал на том, что Амос совершенно здоров, видимо, получил хорошее образование и помнит все, что когда-либо изучал. Ему не надо было начинать жизнь сначала. К тому же у него был сильный характер. Амос сумел вылечиться от алкоголизма. Теперь же доктор Клинтон мне сказал: «У меня нет возможности долго держать его в больнице. Но я боялся его выписать, потому что не представлял, как человек без прошлого сможет обеспечить себя. В наше время у каждого должны быть какие-то документы. Более того, он неприязненно относится ко всему, что связано с наукой, в частности с медициной и психиатрией. В победнее время он помогал нашей уборщице, потому что не хотел быть в тягость. Амос послушен, прилежен, но слишком образован для такой работы. Единственное, в чем он проявил инициативу, — написал роман. Если он сможет зарабатывать себе на хлеб, у меня нет оснований держать его здесь. Он больше во мне не нуждается. Я ничего не могу для него сделать». Конечно, спросил у Клинтона, можно ли вернуть Амосу память, на что врач ответил: «Думаю, нет. Вспомните Каспара Хаузера.[8] Непродолжительная амнезия могла быть результатом алкоголизма, но дело усугубилось раной на голове. Наверное, у него было более сильное сотрясение мозга, чем мы думали. Впрочем, может быть, именно алкоголизм и травма привели к амнезии. Скорее всего, он пил, желая освободиться от каких-то неприятных воспоминаний, и сотрясение мозга довершило эту работу. Известно, что даже нормальные люди вырабатывают в себе частичную амнезию, если хотят о чем-то забыть. Поэтому, например, солдатам лет через десять война кажется гораздо романтичнее, чем она была в действительности». В тот момент я думал, не было ли чего преступного в прошлой жизни Амоса. Но Клинтон сразу отверг это предположение. Теперь я об этом вспомнил. Может быть, с ним свели счеты?
— Нет, — сказал Гас, — он не похож на преступника. Я тоже об этом подумал. Потом увидел его слабый подбородок, болезненный рот, хрупкую фигуру и вопрошающий взгляд. Тогда в нем было что-то детское, только держался он спокойнее и незаметнее чем дети.
— Короче говоря, — резюмировал Тони, — Амос казался тем, кем он был, — неполноценным человеком, личностью без прошлого.
— Две трети призрака, — сказал Гас. — Вот кем был Амос.
— Или одна треть, — уточнил Тони. — К тому времени, когда мы с ним встретились, ему было лет тридцать — тридцать пять, из них два года он провел в клинике. Интеллектуально и физически он был взрослым мужчиной, а эмоционально — шестилетним ребенком.