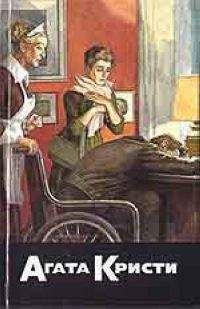К этому времени все уже давно должно было бы кончиться. Он был бы недосягаем для всего этого! Черт бы побрал это дурацкое деревце, неведомо откуда взявшееся на самой середине скалы! Черт бы побрал эту услужливую пару влюбленных, которым вздумалось поворковать у самого обрыва, несмотря на холод зимней ночи!
Не будь их (и дерева!), все бы уже кончилось — всплеск ледяной воды, короткая борьба, возможно, и — забвение, конец загубленной, бесполезной, безнадежно нищей жизни.
И где же он теперь! Жалкий шут, валяющийся на больничной кровати со сломанным плечом и перспективой полицейского расследования предпринятой им преступной попытки самоубийства.
Черт возьми, ведь это его собственная жизнь, не так ли?
А если бы попытка удалась, его бы похоронили, исполнившись жалости к бедному безумцу.
Безумцу, черта с два! Его голова никогда в жизни не была такой ясной, как в тот день. И самоубийство представлялось наиболее логичным и разумным решением, к какому только мог прийти человек в его положении. Дошедший до точки, вечно больной, оставленный женой, которая ушла от него к другому. Без работы, без привязанностей, без денег, здоровья и надежды — нет, покончить со всем этим было единственно возможным решением.
И вот он здесь в совершенно дурацком положении. Вдобавок ему еще предстоит выслушивать увещевания какого-нибудь мирового судьи-праведника, и все за то, что он поступил разумно с достоянием, которое никому, абсолютно никому, кроме него, не принадлежит — с собственной жизнью.
От этих мыслей он даже захрипел от злости.
Сестра тут же оказалась рядом.
Она была молода, рыжеволоса, с добрым, пусть и деланно-участливым выражением лица.
— Вам больно?
— Нет.
— Я дам вам успокоительное, вы уснете.
— Я не нуждаюсь в успокоительном.
— Но…
— Вы что, думаете, я без вас не смогу справиться с какой-то болью и бессонницей?
Она ответила мягкой улыбкой, снисходительно глядя на него при этом.
— Доктор сказал, что вам можно поесть.
— Мне наплевать, что сказал доктор.
Она поправила одеяло на его кровати и подвинула стакан с лимонадом чуть ближе к нему. Ему стало немного стыдно за себя, и он сказал:
— Извините, если я был груб.
— Ну что вы, ничего страшного.
Его задело, что она вот так совсем не отреагировала на его грубость. Подобные вещи, очевидно, не могли пробить профессиональной брони ее дежурного сочувствия. Для нее он был больным — не человеком.
У него вырвалось:
— Лезете все время… Все время лезете, черт вас возьми…
Она сказала с упреком:
— Ну-ну, это не очень красиво.
— Красиво? — ошеломленно переспросил он. — Красиво?! О, бог ты мой.
Сестра осталась невозмутимой.
— Утром вы почувствуете себя лучше, — сказала она.
Он сглотнул.
— Тоже мне сестры! Да в вас ничего человеческого-то нет, вот что я вам скажу.
— Не сердитесь, но мы знаем, что для вас сейчас лучше.
— Вот это-то и бесит! В вас, в больнице. Во всем мире. Вечно лезете в чужую жизнь со своим знанием, что для других лучше, что нет. Не выношу всего этого. Вот я пытался убить себя — вам, конечно, это известно…
Она кивнула.
— И никого, кроме меня, не касается, бросился я с этой чертовой скалы или нет. Я перестал цепляться за жизнь. Дошел до точки, с меня хватит!
Сестра тихонько поцокала языком, что, должно быть, означало сочувствие. Всем своим видом она показывала, что готова терпеливо слушать, дать ему возможность выпустить пар.
— Почему? Почему я не должен убивать себя, если мне этого хочется? — настаивал он.
Ее ответ прозвучал неожиданно серьезно.
— Потому что это не правильно.
— Почему же это не правильно?
Она в замешательстве посмотрела на него. Ее собственная вера не была поколеблена, но ей не хватало слов, чтобы выразить то, что она чувствовала.
— Ну, я хочу сказать, это нехорошо — убивать себя. Мы должны жить, нравится нам это или нет.
— А почему должны?
— Ну, с другими тоже нужно считаться, разве нет?
— Не в моем случае. Ни для кого на свете ничего не изменится с моим уходом.
— У вас что, и родственников нет? Ни матери, ни сестер, никого?
— Нет. Была жена, но она меня бросила — и правильно сделала! Она же видела, что я ни на что не годен.
— Ну, так друзья, наверное, есть.
— И друзей нет. Я по натуре человек не очень дружелюбный. Послушайте, сестра, я вам сейчас все расскажу. Когда-то я был счастлив и радовался жизни. У меня была хорошая работа и очаровательная жена. Случилась авария. Мой хозяин вел машину, а я был в ней. Он хотел, чтобы я показал на дознании, что в момент аварии скорость была ниже тридцати. А она была выше. Он жал почти под пятьдесят! Нет-нет, никто не пострадал, ничего такого. Просто он хотел получить страховку. Так вот, я не сказал того, что он хотел. Это была ложь. А я никогда не лгу.
Сестра уже не казалась безразличной.
— Я думаю, вы поступили правильно, — убежденно сказала она. — Абсолютно правильно.
— Вы так думаете, правда? Так вот, мое ослиное упрямство стоило мне работы. Хозяин разозлился. Он еще проследил, чтобы я не получил никакой другой. Моей жене надоело видеть, как я слоняюсь, неспособный подыскать хоть что-нибудь. Она сбежала с человеком, который был моим другом. У него дела обстояли неплохо, он уверенно шел в гору. Я же плыл по течению, опускаясь все ниже и ниже. Понемногу пристрастился к выпивке. С такой привычкой на работе удержаться трудно. Наконец я дошел до срыва — перенапрягся изнутри, доктор сказал, что я уже никогда не буду здоров как прежде. Ну и тогда жить стало совсем незачем. Самый простой и самый ясный путь был исчезнуть. Моя жизнь стала не нужна ни мне, ни кому-либо еще.
Сестра прошептала с каким-то суеверным и сильным чувством:
— Этого никогда не знаешь наверное.
Он рассмеялся. Настроение у него уже немного улучшилось. Ее наивное упорство забавляло его.
— Милочка моя, ну кому я могу быть нужен?
Она повторила, смешавшись:
— Никогда не знаешь. Может, и понадобитесь… когда-нибудь…
— Когда-нибудь? Не будет никакого «когда-нибудь». В следующий раз я буду действовать наверняка.
Она решительно замотала головой.
— Нет-нет, — сказала она, — теперь вы себя не убьете, даже и не думайте!
— Это почему же?
— Они никогда этого не делают.
Он уставился на нее — «они никогда этого не делают»… Ну конечно. Здесь он всего лишь представитель занятной, с их профессиональной точки зрения, категории несостоявшихся самоубийц. Он открыл было рот, чтобы энергично запротестовать, но свойственная ему честность остановила его.
Решился бы он в самом деле повторить свою попытку? Действительно ли он намерен сделать это снова?
Сейчас он вдруг со всей ясностью понял, что не сможет. Он не сумел бы объяснить почему. Вероятно, подлинной причиной была та, о которой сказала эта наивная сестра, вычитав ее из своих медицинских книжек. Самоубийцы никогда не повторяют своих попыток.
Тем с большей решимостью он теперь пытался заставить ее признать его моральную правоту.
— В любом случае с моей собственной жизнью я имею право поступать, как мне нравится!
— Нет, не имеете.
— Но почему же, милая моя, почему?
Она вспыхнула. Ее пальцы теребили золотой крестик, висевший у нее на шее.
— Вы не понимаете. Бог может нуждаться в вас. Его взгляд застыл от неожиданности. Он не хотел разрушать ее детской веры и потому лишь произнес с усмешкой:
— Имеется в виду, что однажды я мог бы остановить понесшую лошадь и спасти от смерти ребенка с золотыми волосами, да? Вы об этом?
Сестра покачала головой, потом заговорила проникновенно, пытаясь выразить то, что так явственно виделось ей и с таким трудом облекалось в слова.
— Может быть, вы просто будете где-то — даже не делая ничего — просто будете в каком-нибудь месте в какое-то время, — я никак не могу найти правильные слова, — ну, вы, может быть, просто… просто пройдете однажды по улице и уже одним этим совершите нечто ужасно важное, может быть, даже и не зная, что это было.
Рыжеволосая сестра родилась на западном побережье Шотландии. Про некоторых в ее семье поговаривали, будто они обладают даром предвидения.
Возможно, в этот момент она в самом деле увидела мужчину, шагающего сентябрьской ночью по темной дороге и тем самым спасающего человеческое существо от ужасной смерти…
Одинокая фигура склонилась над письменным столом. В полной тишине было слышно лишь, как поскрипывает перо, оставляя на бумаге строчку за строчкой.
Никто не мог прочесть написанного. А если бы кто-нибудь и смог сделать это, он не поверил бы своим глазам. Ибо на бумаге возникал ясный, продуманный до мелочей план убийства.
Случается порой, что мысль вдруг начинает существовать как бы отдельно от нас; и тогда человеку ничего не остается, как покорно склониться перед этим чуждым нечто, которое отныне руководит всеми его действиями. Тело становится подобным послушному автомату.