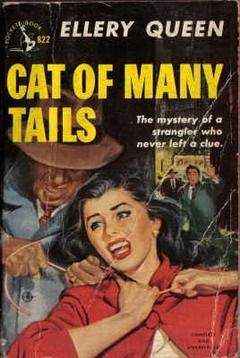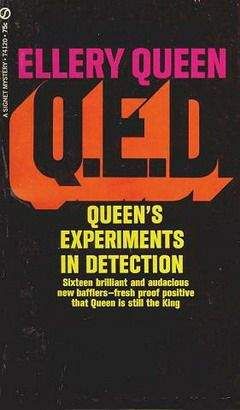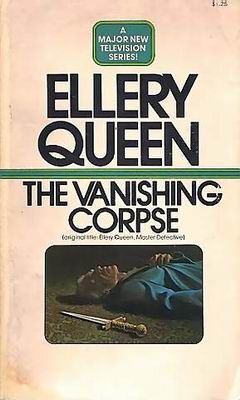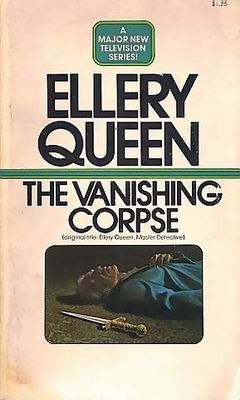— Вы уверены, что это вам не помешает? — с тревогой спросила она у Мэрилин, чувствуя себя виноватой. Но Мэрилин ответила, что привыкла работать в самых невозможных условиях.
— С таким мальчишкой, как Стэнли, в доме нужно либо отключить слух, либо накинуть себе петлю на шею, — сказала она.
Упоминание о петле на шее вызвало у Селесты легкую тошноту. На третий день своего пребывания у Сомсов она поймала себя на том, что избегает смотреть на упомянутую часть анатомии Мэрилин, которая стала для нее своего рода символом связи между их жизнью и поджидающей снаружи смертью.
Перемещение Элинор в кровать Стэнли создало проблему и обострило у Селесты чувство вины. Миссис Сомс заявила, что брат и сестра в таком возрасте, как Билли и Элинор, не должны спать в одной комнате. Поэтому Билли отправили в спальню родителей, а миссис Сомс перебралась в спальню мальчиков, разделив ее с Элинор.
— Я чувствую себя так, будто устроила революцию, — жаловалась Селеста. — Перевернула все вверх дном.
— Не обращайте на нас внимания, мисс Мартин, — успокоила ее миссис Сомс. — Мы вам так благодарны, что вы согласились ухаживать за нашим малышом.
Но Селеста ощущала себя бессовестной и лицемерной шпионкой. Ее слегка утешало, что позаимствованная для нее у соседей древняя койка была жесткой, как пол в пещере флагелланта[108]. Она усматривала в этом наказание за свое притворство и почти сердито отвергла предложение семьи занять одну из их кроватей.
— Все это так мерзко! — говорила Селеста Квинам и Джимми во время их второго вечернего свидания в районе Первой авеню. — Они так добры ко мне. Я чувствую себя преступницей.
— Ведь я предупреждал, что она слишком простодушна для такой работы, — усмехнулся Джимми, но в темноте сжал пальцы девушки.
— Джимми, они такие славные люди и так мне благодарны! Если бы они только знали!..
— Это напоминает мне... — начал Джимми, но Эллери прервал его:
— Какова ситуация с почтой, Селеста?
— Мэрилин по утрам спускается за ней, как только встает. Мистер Сомс уходит до первой почты.
— Это нам известно.
— Мэрилин хранит текущую корреспонденцию в проволочной корзине на своем письменном столе. Читать ее для меня не составляет труда, — продолжала Селеста дрожащим голосом. — Прошлой ночью я проделала это, когда Мэрилин и Стэнли спали. Днем тоже есть возможности. Ведь Мэрилин иногда приходится уходить из дому в связи с ее работой.
— Это мы тоже знаем, — мрачно произнес инспектор.
Неожиданные экскурсии Мэрилин, особенно в вечерние часы, держали их в напряжении.
— А если Мэрилин дома, она всегда завтракает в кухне. Я могу читать ее почту, даже когда Стэнли не спит, из-за плотного занавеса.
— Превосходно.
— Рада, что вы так думаете... — И Селеста внезапно оросила слезами голубой галстук Джимми.
Но когда девушка вернулась в квартиру Сомсов, на ее щеках играл румянец, и она сказала Мэрилин, что прогулка пошла ей на пользу. И это соответствовало действительности.
* * *
Селеста установила время их встреч между десятью и четвертью одиннадцатого вечера. Стэнли ужинал перед сном не раньше девяти, а засыпал не раньше половины десятого.
— Так как мальчик прикован к постели, он не нуждается в длительном сне. Я не могу уйти, не будучи уверенной, что Стэнли заснул, а потом я еще помогаю мыть посуду после ужина.
— Вы не должны слишком много заниматься домашней работой, мисс Филлипс, — заметил инспектор. — Это может вызвать подозрения. Сиделки не...
— Сиделки тоже люди, не так ли? — улыбнулась Селеста. — Миссис Сомс — больная женщина, которая трудится целый день, и если я могу избавить ее от части работы, то буду это делать. Неужели меня за это исключат из шпионского профсоюза? Не беспокойтесь, инспектор Квин, я не выдам себя. Я ведь понимаю, что поставлено на карту.
Инспектор промямлил, что не имел в виду ничего подобного, а Джимми прочитал стихотворение, якобы сочиненное им, но подозрительно похожее на поэзию Елизаветинской эпохи[109].
Итак, они встречались в десять или немного позже, каждый раз на новом месте, о котором договаривались на предыдущем свидании. Для Селесты это было путешествием в страну фантазии. Двадцать три с половиной часа в сутки она работала, ела, шпионила и спала среди Сомсов, поэтому полчаса вне дома казались ей полетом на Луну. Правда, переносить эти встречи ей помогало только присутствие Джимми — она начинала побаиваться напряженных вопрошающих лиц Квинов. Селеста с трудом сдерживалась, идя к условленному месту по темной улице и ожидая тихого свиста Джимми, служившего сигналом. После этого она присоединялась к трем мужчинам в подъезде, под навесом магазина или в переулке — в зависимости от того, где было назначено свидание, — рассказывала им об однообразных событиях прошедшего дня, отвечала на вопросы о почте Сомсов и телефонных звонках, держась в темноте за руку Джимми и чувствуя его взгляд, а потом бегом возвращалась в ставший таким уютным безопасный маленький мирок Сомсов.
Селеста не пыталась объяснить, как аромат теста миссис Сомс напоминает ей маму Филлипс, а Мэрилин каким-то непостижимым образом пробуждает в ней лучшие воспоминания о Симоне, в каком мучительном страхе она проводит каждый час и каждую минуту. Хотя ей очень хотелось рассказать им об этом — особенно Джимми.
* * *
Квины думали не переставая. Между вечерними встречами с Селестой им больше нечем было заняться.
Снова и снова они возвращались к рапортам о Казалисе, которые выводили их из себя. Он вел себя так, как если был бы доктором Эдуардом Казалисом, знаменитым психиатром, а не коварным параноиком, поглощенным удовлетворением своей ненасытной жажды смерти. Казалис все еще работал с коллегами над историями болезней, присланными частными практикующими психиатрами. Он даже посетил собрание у мэра, где присутствовали Квины. На этом собрании Казалиса непосредственно изучали люди, понаторевшие в искусстве притворства, но кто был лучшим актером — они или он, — оставалось большим вопросом. Выступление психиатра было вежливо расхолаживающим — он повторил, что они зря теряют время, что, хотя им удалось уговорить некоторых коллег прислать истории болезней, остальные упорствовали, и рассчитывать на них было нечего. Инспектор Квин доложил мэру, что среди немногих подозреваемых, о которых сообщили доктор Казалис и его соратники, никто не может быть Котом.
— А вы добились какого-нибудь прогресса по вашей линии? — спросил Казалис инспектора. Когда старик покачал головой, врач улыбнулся. — Возможно, это некто, живущий за пределами Нью-Йорка.
Эллери счел это заявление недостойным.
Тем не менее, доктор в эти дни выглядел скверно — он казался усталым и похудевшим, а в волосах прибавилось седины. Его лицо выглядело старым и измученным, под глазами обозначились мешки, а пальцы, если не барабанили по какому-нибудь предмету, шарили по телу, словно ища, за что ухватиться. Миссис Казалис, также присутствующая на собрании, сказала, что участие в расследовании явилось для ее мужа непосильным трудом, и выразила сожаление, что уговорила его продолжать эту работу. Доктор погладил руку жены и сказал, что его беспокоит не сама работа, а то, что он потерпел неудачу. Молодые легко переживают неудачи и идут дальше, а старики сгибаются под их грузом.
— Эдуард, я хочу, чтобы ты бросил это дело, — настаивала миссис Казалис.
Но он улыбнулся и ответил, что уйдет на покой, как только «завяжет кое-какие узлы».
Неужели он издевался над ними, используя столь прозрачную метафору?
Или страх перед разоблачением оказался достаточно сильным, чтобы сдержать постоянный импульс к убийству?
Возможно, Казалис заметил, что за ним следят, хотя детективы уверяли, что это исключено.
А может быть, они «наследили» во время визита в его квартиру? Правда, они работали тщательно и методично, не прикасаясь ни к одному предмету, покуда точно не запомнят его местоположение, и аккуратно возвращая его на прежнее место.
Все же Казалис мог заметить, что что-то не так. Не исключено, что он приготовил ловушку — оставил в одном из ящиков с медкартами какой-нибудь волосок, видимый только ему. Психопат определенного типа мог принять подобную меру предосторожности. Ведь они имели дело с человеком, чей ум превосходил его безумие. Возможно, он был наделен даром предвидения.
Все передвижения доктора Казалиса были столь же невинными, как у человека, бредущего по полю в солнечный день. Ежедневно он принимал у себя в кабинете одного-двух пациентов — главным образом женщин. По вечерам Казалис обычно не покидал квартиру. Однажды он навестил Ричардсонов вместе с женой, в другой раз посетил концерт в «Карнеги-Холл», где слушал симфонию Франка[110] с открытыми глазами и судорожно стиснутыми руками, а потом, расслабившись, наслаждался Бахом и Моцартом. Он также побывал на званом вечере с коллегами и их женами.