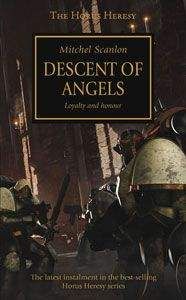– Буду считать это делом всей моей жизни.
Она засмеялась.
– Куда мы идем? – спросил я.
– В утреннюю гостиную.
Я остановился и отнял у нее руку.
– В утреннюю?..
– Да. Я решила, что нам лучше поговорить там.
– Но…
– Там нашли тело Джозефа?
– Да. – Пойти туда с Рэндлом Кимптоном, чтобы поглядеть на пятно на ковре, – это одно, ведь оно есть только там, но поговорить с леди Плейфорд мы могли в любом другом уголке ее дома.
– Ковер уже убрали, – сказала она. – Гарда разрешила. Из Артура Конри я могу вить веревки, если захочу. Я просто сказала ему, что он, конечно, имеет полное право запрещать мне менять в моем доме ковры, и очень хорошо, что нам всем теперь нельзя дышать свежим воздухом, и уж тем более абсолютно логично держать нас тут, в четырех стенах – он тут же стал тих и кроток, как овечка. Так что ковер вчера унесли. И, обещаю, в утренней гостиной мы не найдем ни следа убийства.
– Ясно.
Она посмотрела на меня сурово.
– Это просто комната в моем доме, Эдвард, причем именно та, где по утрам бывает больше солнца. И я не намерена превращать ее в святилище смерти, хотя мне не больше вашего хочется идти туда сейчас. Но придется. А еще мне придется повторять эту процедуру изо дня в день, до тех пор, пока я не привыкну.
– Это, несомненно, самый мудрый подход к делу, – согласился я.
– К тому же, как мы теперь знаем, Джозеф умер совсем в другом месте.
И я последовал за ней в утреннюю гостиную. Входя, я ожидал увидеть там голый пол, но обнаружил новый ковер: сине-зелено-белый, со сложным узором из деревьев и птиц.
– Садитесь, Эдвард. – Леди Плейфорд указала на стул, который она выбрала для меня. Он стоял дальше остальных от места, где еще недавно лежал Джозеф Скотчер с разбитой головой; спасибо и на этом. Сама она опустилась в шезлонг напротив.
– Вам есть о чем меня спросить, а мне есть что вам рассказать, – начала она. – Приступим? Все дело в том, что я сама, в кои-то веки, попала в историю, да такую, каких поискать, но я ни с кем не могла ею поделиться. Теперь, когда Джозефа больше нет, а дознание подтвердило мои давнишние подозрения в том, что он ничем не болел и уж, конечно, не был при смерти, я могу говорить свободно. Мне нечего больше скрывать. Какое же это облегчение!
– Могу себе представить, – отозвался я с готовностью.
– Еще недавно я считала, что эта история никогда не найдет своего слушателя, – продолжала леди Плейфорд. – Я решила сохранить все в тайне, чтобы не порочить доброе имя Джозефа, но теперь, когда он мертв – убит, – я обязана рассказать вам все. У меня просто нет выбора, если я хочу, чтобы убийцу поймали. Но сначала скажите мне вот что, Эдвард: насколько подробно вы помните разговор, который шел за столом в день убийства?
– Думаю, что бо́льшую часть я помню, – сказал я.
– Хорошо. Тогда вы наверняка не забыли, чем я объяснила свой странный поступок. Действительно, с чего бы мне лишать собственных детей наследства и оставлять все какому-то секретарю? Я сказала, обращаясь в присутствии всех вас к Джозефу, – сказала, возможно, даже вот этими самыми словами, ведь я заранее готовила свою речь: «Хорошие врачи знают, что жизнь души напрямую связана с жизнью тела, то есть психология способна порой влиять на физиологию». Я говорила, что хочу дать Джозефу новую цель в жизни – огромное состояние – в надежде, что воспрянувший дух окажет свое влияние на тело и вылечит его недуг. Вы это помните?
– Да.
– Хорошо. Еще я сказала, что больше не доверю Джозефа его врачу, а на следующий же день повезу его к моему, лучшему из лучших. Кстати, это правда – у меня замечательный врач. А вот все остальное, к моему стыду, было ложью. Точнее говоря, ложью, которая имела все шансы стать правдой. Я ведь ничего наверняка не знала. В этом и заключалась моя дилемма, понимаете?
– Честно говоря, не очень, – сознался я.
– Я действительно не хотела больше предоставлять врачам Джозефа делать с ним, что им вздумается, – при условии, конечно, что эти врачи существовали на самом деле, а не только в его воображении. И я действительно собиралась повезти его к моему замечательному доктору утром – если бы за ночь не случилось ничего такого, что изменило бы положение вещей, – а у меня было предчувствие, что непременно что-то случится. – Леди Плейфорд моргнула и добавила: – Хотя, конечно, у меня и в мыслях не было, что Джозефа убьют. Если бы я подозревала такую возможность, то не стала бы ничего устраивать – никакого нового завещания, никакого объявления за обедом. И вот за эту ошибку я никогда себя не прощу. Какое чудовищное самомнение с моей стороны – воображать, будто я могу предвидеть все последствия своих действий.
– В смерти Скотчера виноват лишь его убийца, – сказал я ей.
Она улыбнулась:
– Это глупость, но глупость приятная, а потому я сделаю вид, что верю.
Я молча ждал, когда она заговорит снова. Наконец она вздохнула – шумно, как паровоз, выпускающий пар, и продолжила:
– Я не верила в смертельную болезнь Джозефа. Ну, может быть в самом начале, когда он только рассказал мне о ней, – тогда я огорчилась, очень огорчилась. Я ведь быстро к нему привыкла. И не просто привыкла. Не прошло и двух дней, как он появился в Лиллиоуке, а я уже горячо благодарила всевышнего за то, что он послал его мне. Вы успели хоть раз поговорить с ним, Эдвард? Тогда вы знаете, о чем я: с ним у меня всегда было такое чувство, словно он понимает меня лучше всех на свете и любит, как никто никогда не любил.
– Да, он действительно показался мне очень добрым человеком, который заботился о других, – сказал я.
– Верно, а еще он был прозорлив, – добавила леди Плейфорд. – Каждый раз, беседуя с ним, я ощущала, как он словно отпирал магическим ключом мое сердце, мой ум и показывал мне мои собственные мысли, ту мудрость, о которой я сама даже не подозревала. Вздумай кто-то другой полновластно хозяйничать в моей голове и моем сердце, я сопротивлялась бы, как тигрица, но Джозеф так хорошо меня понимал. Как никто. И он был умен! С ним всегда было интересно. Его общество стимулировало. О чем бы он ни завел речь – а, надо сказать, его мнение далеко не всегда совпадало с мнением окружающих, – я всегда обнаруживала, что разделяю его идеи. Он всегда точно знал, что сказать, а главное как.
Она продолжала:
– Знаю, это прозвучит глупо, Эдвард, но иногда мне и впрямь казалось, будто кто-то взял у меня кусочек моей души, чтобы сотворить Джозефа. Когда он только появился тут, в Лиллиоуке, я едва находила в себе силы общаться с другими. По сравнению с ним все были просто скучны.
Леди Плейфорд побарахталась в шезлонге и села прямо.
– Все это я говорю вам сейчас вот зачем: не удивляйтесь тому, что услышите дальше. Когда Джозеф впервые сказал мне, что у него серьезные проблемы с почками, я была поражена. До тех пор я ничего такого за ним не замечала – он прекрасно справлялся со своими обязанностями, да и выглядел неплохо. Услышав, что болезнь угрожает его жизни, я страшно испугалась. Я была в отчаянии! У меня нет слов, что описать мои тогдашние чувства. Мысль о том, что я могу его потерять, была просто нестерпима.
Она на миг умолкла и прикрыла глаза. То, что казалось ей нестерпимым тогда, стало реальным теперь. Мне пришло в голову, что существует большая разница между реальностью и мыслью: мысль можно прогнать, в реальности приходится жить.
– Я немедленно наняла ему лучшую сиделку, какую могла найти: Софи. Много раз пыталась устроить ему встречу с моим личным врачом, но Джозеф не соглашался. Вот почему, когда он пришел ко мне с известием о том, что болен болезнью Брайта и она уже вошла в завершающую стадию, я… у меня уже были кое-какие подозрения, скажем так. И все равно, даже несмотря на сомнения, я была глубоко тронута отсутствием в Джозефе всякой заботы о себе. Казалось, его по-настоящему волнует лишь одно: как утешить меня. Он уверял меня, что он борец по натуре и что твердо намерен оставаться со мной так долго, как только это будет возможно. Я тогда подумала: «Как этот бедный умирающий мальчик может быть настолько добр и бескорыстен, чтобы тревожиться обо мне, а не о себе? Он, должно быть, святой!» Наверное – хотя мне и стыдно признаваться в этом теперь, – я вполне могла подумать: «И как только я смела усомниться в нем? Изображать недомогание – одно, но разве здоровому человеку хватит духу притворяться безнадежно больным, умирающим?»
Конечно, здравый смысл во мне возобладал, но гораздо позже. И тогда я поняла, что Джозеф вполне может позволить себе изображать святого и думать исключительно о том, какое впечатление он производит на меня, ведь у него нет ровным счетом никаких причин волноваться за свое здоровье.
– Когда вы начали подозревать, что он лжет вам о своей болезни? – спросил я.
– Я бы не сказала, что он лгал. Лгу я, когда мне так удобно, – в случае с Эдит Олдридж, например, когда я сказала, что послала ей письмо с благодарностями, но оно, должно быть, затерялось где-то по дороге. Это была чистая неправда, и я сама это знала. А Джозеф, по-моему, совсем не понимал, когда лжет – ну, или не до конца понимал. Он убеждал самого себя в том, что каждое его слово – правда.