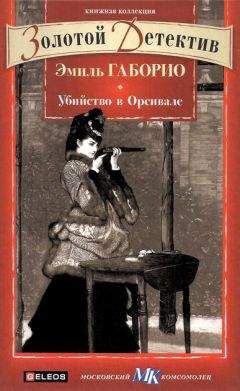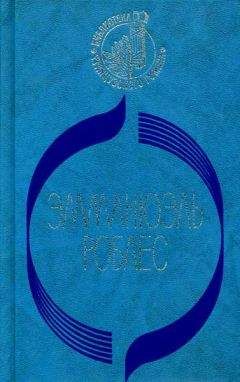«А, подлая! — подумал Соврези. — Пошла на свидание к любовнику».
И одновременно с желанием отомстить, все настойчивей, все упорнее его мозг сверлила мысль о необходимости забрать записку.
«Чтобы меня не заметили, — решил Соврези, — до спальни можно будет добраться через сад, а потом по черной лестнице. Она уверена, что я сплю, а до ее прихода я успею вернуться и лечь»…
И, ничуть не задумываясь, не слишком ли он слаб для такого предприятия и не опасно ли ему выходить на холод, Соврези встал с кровати, надел халат, висящий на стуле, сунул босые ноги в туфли и направился к двери, говоря себе: «Если они увидят меня, притворюсь, будто у меня снова бред».
Света в вестибюле не было, и Соврези долго не мог открыть дверь. Наконец ему удалось справиться с засовом, и он спустился в сад.
Уже выпал снег, было морозно. В обледеневших ветвях деревьев заунывно выл ветер. Все окна в доме были темны, кроме одного — комнаты графа де Тремореля; там горели камин и лампа без абажура. На тонких муслиновых занавесках вырисовывалась четкая тень Эктора. Он стоял у самого окна.
Соврези совершенно автоматически остановился, чтобы взглянуть на человека, который жил здесь, как у себя дома, и отблагодарил за братское гостеприимство тем, что принес в этот дом бесчестье, отчаяние, смерть. Какие мысли владеют человеком, стоящим у окна и глядящим в темноту? Может быть, он думает о том, как подло обошелся с другом?
Внезапно Треморель вздрогнул и повернулся, словно услышал неожиданный шум. Соврези понял, в чем дело. Через секунду на занавеске появилась вторая тень — тень женщины, Берты.
А он вопреки всему еще пытался сомневаться! Вот оно, новое доказательство, хоть он его и не искал.
Что же привело ее в эту комнату в такой час?
Берта что-то возбужденно говорила. Соврези казалось, что он слышит ее звучный глубокий голос, то вибрирующий, как струна, то ласковый и обволакивающий, от которого прежде все в нем вздрагивало. Он представил себе ее несказанно прекрасные глаза, имевшие неограниченную власть над его сердцем, о которых он думал, будто знает все оттенки их выражения.
Зачем она пришла туда?
Никаких сомнений, Берта о чем-то просит Эктора, он ей отказывает, она не отступается. Да, упрашивает. Соврези понял это по жестикуляции Берты, которую повторял черный силуэт на муслиновой гардине, словно на экране из промасленной бумаги в китайском театре теней. О, Соврези прекрасно знаком прелестный умоляющий жест, который она делала, когда хотела чего-то добиться. Она поднимала сложенные руки ко лбу, склоняла голову, полузакрыв глаза, чтобы они еще больше заблестели, и какой сладостной, томительной неги был исполнен ее голос, когда она произносила: «Милый, добрый Клеман, ты ведь сам этого хочешь, правда? Ну скажи, что ты сам этого хочешь…» А теперь этот пленительный жест, этот взгляд, этот умоляющий голос обращены к другому.
Чтобы не упасть, Соврези прислонился к дереву.
Очевидно, Эктор отказывался сделать то, что просила Берта. И теперь она, с недовольным видом наклонив голову, сердито трясла указательным пальцем правой руки. Казалось, она повторяла: «Видишь, ты не хочешь, не хочешь!» И тем не менее снова принималась упрашивать.
«Он способен противиться ее просьбам, — думал Соврези, — а у меня никогда не хватало на это духу. Способен не потерять голову, сохранять хладнокровие, когда она смотрит на него. А я никогда не говорил ей «нет», да что там, я не ждал, пока она попросит меня. Я жизнь посвятил тому, чтобы угадывать ее малейшие желания и предупреждать их. Может, потому я и потерял ее?»
Эктор упорствовал, и Берта, видимо, стала раздражаться, пришла в ярость. Она отступила назад и, вытянув руки, выставив грудь вперед, угрожала. Наконец Эктор сдался и кивнул — да. И тогда она бросилась к нему, и две тени слились в одну в долгом объятии.
Соврези не смог сдержать отчаянного вопля, который заглушили завывания ветра.
Ему нужны были доказательства — теперь он их получил. Увидел ясную, очевидную, неоспоримую правду. Теперь ему остается только найти способ отомстить — жестоко, безжалостно.
Берта и Эктор мирно беседовали: она склонилась ему на грудь, он время от времени целовал ее прекрасные волосы.
Соврези понял, что она сейчас спустится, так что нечего и думать о поисках записки, и поспешно возвратился в дом, но, потрясенный увиденным, позабыл запереть садовую дверь на засов. Войдя к себе в комнату, он обнаружил, что на туфлях у него снег и вообще они насквозь промокли. Тогда он поспешно засунул их глубоко под кровать, лег и притворился спящим.
Он едва успел: буквально в ту же минуту вернулась Берта. Она подошла к мужу, но, видя, что тот спит, села у камина и взялась за вязанье. Не успела она провязать и десятка петель, как появился Эктор. Он забыл взять газету и теперь пришел за нею. Вид у него был озабоченный.
— Графиня, вы не выходили вечером из дома? — спросил он полушепотом, каким люди невольно начинают разговаривать в комнате больного.
— Нет.
— А слуги спят?
— Думаю, да. Но почему вы об этом спрашиваете?
— Потому что, после того как я поднялся к себе с полчаса назад, кто-то выходил в сад и снова вошел в дом.
Берта бросила на Тремореля встревоженный взгляд.
— Вы уверены?
— Совершенно. На дворе снег, и этот человек принес его на подошвах. Снег в вестибюле растаял…
Не дослушав, Берта схватила лампу.
— Идемте, — сказала она.
Треморель не ошибся. Кое-где на черных плитах пола ясно выделялись небольшие лужицы.
— Может, эти лужи здесь давно? — предположила Берта.
— Нет, они недавние. Видите — вон там снег еще не растаял.
— Кто-нибудь из слуг? Эктор пошел проверить дверь.
— Не думаю. Слуга задвинул бы засов, а он, как видите, не закрыт. Сегодня вечером двери запирал я и прекрасно помню, что засов задвигал.
— Странно.
— А главное, обратите внимание, что мокрые следы доходят только до двери гостиной.
Берта и Эктор испуганно смолкли и встревоженно уставились друг на друга. Им обоим пришла одна и та же страшная мысль: «А вдруг это он?»
Но зачем ему было выходить в сад? Не шпионить же за ними. Про окно они даже не подумали.
— Нет, это не может быть Клеман, — произнесла наконец Берта. — Когда я выходила, он спал и по сю пору спокойно спит.
Свесившись с кровати, Соврези слушал разговор этих людей, ставших его заклятыми врагами. Он проклинал свою неосторожность, хотя и понимал, что не создан для всяких коварных ухищрений.
«Только бы они не догадались, — думал он, — проверить мой халат и поискать туфли».
По счастью, эта элементарнейшая мысль не пришла им в голову, и, успокоив друг друга, они разошлись. Однако, уходя, оба уносили в душе тревожную неуверенность.
В ту же ночь у Соврези опять был чудовищный кризис. После краткого просветления страшная гостья горячка вновь затуманила его разум призраками бреда. На следующее утро доктор Р. объявил, что опасность велика, как никогда; по этой причине он отправил в Париж телеграмму, в которой извещал, что дня на два-три остается в «Тенистом доле».
Болезнь обострялась, но течение ее становилось все более и более непонятным. Множились самые противоречивые симптомы. Ежедневно открывалось нечто новое, рушившее все предвидения и предсказания врачей. А причина была в том, что всякий раз, когда Соврези становилось лучше, он вспоминал сцену у окна, и облегчение оборачивалось ухудшением.
Соврези ничуть не ошибся: Берта действительно в тот вечер приходила просить Эктора.
Через день мэр Орсиваля собирался съездить вместе с семьей в Фонтенбло и пригласил графа де Тремореля присоединиться к ним. Эктор сразу принял приглашение; для поездки намеревались заложить четверку лошадей в легкую на ходу коляску, а править ею должен был Треморель; поскольку г-н Куртуа весьма — и не без оснований — доверял умению и навыкам графа по этой части.
Однако для Берты была невыносима даже мысль, что он проведет весь день с Лоранс, и она умоляла его отказаться от прогулки. Можно найти сколько угодно отговорок, говорила она. Да и прилично ли будет принять участие в увеселительной поездке, когда жизнь друга находится в опасности? Поначалу Треморель был решительно против. Однако просьбами, а главное — угрозами она переубедила его и не отстала, пока он не пообещал немедленно написать г-ну Куртуа письмо с извинениями.
Слово Эктор сдержал, но ее тиранией был сыт по горло. Он устал все время подчиняться ее воле, быть несвободным до такой степени, что не мог ничего задумать, сказать, пообещать без молчаливого разрешения ревнивой женщины, не желавшей отпускать его от своей юбки. Цепь эта становилась все тяжелей, оскорбляла его, и он начинал понимать, что сама она не спадет: рано или поздно ее придется порвать.