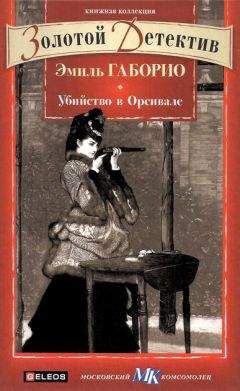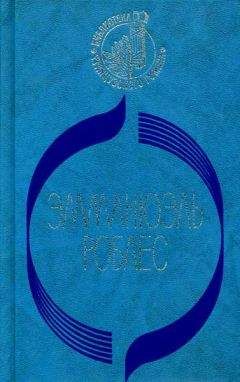Ему пришлось замолчать: он задыхался. Он напрягал силы, чтобы опереться на подушки и сесть в постели; но он чересчур ослабел. Тогда он обратился к жене:
— Берта, помоги мне сесть.
Она наклонилась, оперлась о спинку кровати и, подхватив мужа под мышки, усадила, как он хотел. Казалось, ему стало легче, он несколько раз глубоко вздохнул.
— Теперь, — проговорил он, — я хочу пить. Врач разрешил мне немного старого вина, если уж очень захочется. Налей мне на три пальца.
Она поспешно принесла ему бокал, он выпил и вернул его.
— Яда там не было? — спросил он.
От этого чудовищного вопроса и от улыбки, с которой он был задан, сердце Берты дрогнуло.
В ней уже проснулось отвращение к Треморелю и угрызения совести, она ужасалась тому, что натворила.
— Яд? — горячо воскликнула она. — С этим покончено навсегда!
— Однако тебе придется сейчас дать его, чтобы помочь мне умереть.
— Нет, Клеман, ты не умрешь! Живи, чтобы я могла искупить прошлое. Я преступница, я совершила гнусное злодеяние, но ты так великодушен. Ты будешь жить. Я не прошу у тебя позволения остаться твоей женой, я стану твоей служанкой, буду любить тебя, буду смиренно, на коленях тебе служить, буду угождать твоим любовницам, сделаю все для того, чтобы когда-нибудь, пускай через десять, двадцать лет искупления, ты меня простил.
Охваченный смертельным ужасом, Эктор почти не понимал, что происходит. Но, видя возбуждение Берты, слыша ее пылкую речь, особенно последние слова, он уловил слабый луч надежды, ему вообразилось, что все еще можно уладить, забыть, что Соврези может простить. Приподнявшись в кресле, он пролепетал:
— Да, пощади, пощади нас!
Глаза Соврези засверкали, голос его задрожал от гнева.
— Пощадить вас? Ну нет! — вскричал он. — А вы пожалели меня, когда целый год играли моим счастьем, когда две недели кряду подмешивали мне отраву в питье? Пощадить вас? Да вы не в своем уме! Как ты полагаешь, почему я смолчал, скрыл ваше злодейство, почему спокойно позволил себя отравить, почему позаботился о том, чтобы сбить с толку врачей? Вы надеетесь, что я проделал все это исключительно затем, чтобы под конец разыграть душещипательную сцену прощания и благословить вас на смертном одре? Плохо же вы меня знаете!
Берта рыдала. Она попыталась взять мужа за руку, но он грубо ее оттолкнул.
— Довольно с меня лжи! — воскликнул он. — Довольно вероломства! Я вас ненавижу… Неужели вы не видите, что все во мне умерло, кроме ненависти?
Лицо Соврези исказилось от гнева.
— Скоро уже два месяца, — продолжал он, — как я все знаю. Я сломлен телом и душой. Как невыносимо трудно мне было молчать — ведь у меня сердце разрывалось! Но меня укрепляла одна мысль: я хотел отомстить. Только об этом я размышлял в минуты передышки. Я искал кары, соразмерной оскорблению. Но мне не удавалось ничего придумать, я не видел выхода, пока вы не затеяли меня отравить. В тот день, когда я понял, что вы даете мне яд, я задрожал от радости: месть была найдена!
Берта и Треморель слушали его со всевозраставшим ужасом и изумлением.
— Зачем вы хотели моей смерти? — продолжал Соврези. — Чтобы стать свободными, вступить в брак? Ну что ж, это совпадает с моим желанием. Граф де Треморель станет вторым мужем овдовевшей госпожи Соврези.
— Никогда! — вскричала Берта. — Нет, нет, никогда!
— Никогда! — эхом откликнулся Эктор.
— И все же это произойдет, потому что таково мое желание. Я все подготовил, все продумал, вам не ускользнуть. Знайте: как только я убедился, что вы пустили в ход отраву, я начал писать подробнейшую историю того, что произошло с нами троими; день за днем, час за часом я тщательно заносил в дневник все, что вы со мной проделывали; я припрятал немного яда, которым вы меня пичкали…
При этих словах Берта не удержалась от жеста, в котором умирающему почудилась недоверчивость.
— Можете мне верить, — настойчиво продолжал он, — я припрятал яд и готов рассказать, как мне это удалось. Каждый раз, когда Берта давала мне подозрительную микстуру, я удерживал немного жидкости во рту и потихоньку сплевывал в бутылку, которую прятал под подушками. Ах, вы не понимаете, как мне удалось все это проделать втайне от вас и незаметно для слуг? Знайте же, что ненависть сильнее любви, и прелюбодеянию никогда не сравняться в коварстве с местью. Будьте уверены, я ничего не оставил на волю случая, ни о чем не забыл.
Берта и Эктор тупо уставились на Соврези. Они пытались понять, но не понимали ровным счетом ничего.
— Не будем терять время, — вновь заговорил умирающий, — силы мои на исходе. Итак, сегодня утром я передал бутылку, в которой около литра микстуры, а также рассказ обо всем, что между нами произошло, и о том, как вы меня отравили, одному надежному и преданному человеку, которого вам не удастся подкупить, даже если вы узнаете, кто он. Успокойтесь, он не догадывается, что именно попало ему в руки. Этот человек отдаст вам все в день вашего бракосочетания. Но если вы не вступите в брак ровно через год считая с нынешнего дня, ему поручено передать доверенные ему предметы императорскому прокурору.
Два стона, полных ужаса и тоски, подтвердили Соврези, что он избрал превосходное мщение.
— Запомните хорошенько, — добавил он, — если пакет окажется в распоряжении правосудия, для вас это чревато каторгой, а то и эшафотом.
Соврези выбился из сил. Задыхаясь, хватая воздух широко открытым ртом, он упал на подушки; глаза его угасали, черты лица исказились, словно уже началась агония.
Но ни Берте, ни Треморелю не пришло в голову оказать ему помощь. Ошеломленные, они застыли, глядя друг на друга расширенными от ужаса глазами; казалось, мысли их блуждали в том мучительном будущем, что уготовила им безжалостная месть человека, которого они оскорбили.
Отныне они были неразрывно связаны, объединены общей судьбой, и ничто не могло их разлучить — ничто, кроме смерти. Они были словно каторжники, скованные тяжкой цепью — цепью подлостей и преступлений, первым звеном которой был поцелуй, а последним — убийство.
Теперь Соврези может спокойно умереть — его мщение будет висеть над ними, застить им солнце. С виду свободные, они будут влачиться но жизни под давящим грузом прошлого, их уделом станет рабство, более страшное, чем у чернокожих в ядовитых болотах Южной Америки.
Ненависть и презрение отвращают их друг от друга, но, скованные общим страхом наказания, они приговорены отныне к пожизненным объятиям.
Однако только тот, кто плохо знал Берту, мог бы предположить, что жестокость мужа возмутила ее. Теперь, когда он втоптал ее в грязь, она им восхищалась.
Он умирал, он был так слаб, что с ним сладил бы и ребенок, но в ее глазах он обрел какую-то сверхчеловеческую силу.
Она и не подозревала, что такое упорство и такая отвага могли сочетаться с этой его притворной наивностью. Он видел их насквозь! Они были игрушками у него в руках! Стоило ему захотеть — и он показал бы, что он сильнее их, что он хозяин положения! Пожалуй, в глубине души Берта упивалась этим жестоким объяснением, чудовищностью своею превосходящим все, что мог бы представить себе человеческий разум. Она черпала какую-то горькую гордость в том, что все это случилось с ней, что и она играла роль в этой сцене. В то же время ее терзали ярость и сожаление при мысли о том, что еще недавно этот человек был в ее власти, у ее ног. Теперь она почти любила его. Будь на то ее воля, среди всех мужчин она выбрала бы его. И вот — он уже почти от нее ускользнул.
Впрочем, надо заметить, что Берта не такое уж исключение в нашем мире.
Подобные характеры встречаются достаточно часто, просто у Берты все это оказалось доведено до крайности. Воображение, смотря по обстоятельствам, может стать огнем очага, оживляющим жилище, а может и пожаром, уничтожающим его. Воображение Берты, не находя себе другой пищи, воспламеняло ее низменные инстинкты.
Женщины, наделенные такой страшной энергией, способны либо на самые жестокие преступления, либо на подвиги добродетели, это либо самоотверженные героини, либо чудовища. Среди них встречаются ангелы самоотречения, тогда они делят крестный путь с каким-нибудь безвестным гением или жертвуют жизнью во имя великой идеи. А иногда они ужасают общество своим цинизмом, отравляют мужей и пишут при этом письма, поражающие прекрасным слогом, а свой конец встречают где-нибудь is каторжной тюрьме.
Но в конечном счете лучше уж страстная натура Берты, чем дряблый, рыхлый характер Тремореля.
Страсть, по крайней мере, движется к определенной цели, хотя сметает все на своем пути, подобно пушечному ядру. А слабость — свинцовая гиря, привязанная к веревке: она все крушит и всех калечит направо и налево, смотря по тому, куда махнет ею первый встречный.
Покуда в душе Берты клокотала ярость, Треморель начал приходить в себя. Подобно тростнику, который под порывами ветра клонится до земли и всякий раз выпрямляется, собирая все больше и больше грязи, граф очень скоро оправлялся после любой бури.