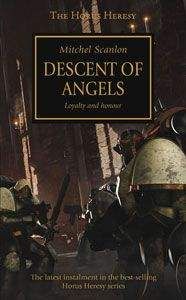Кимптон вздохнул:
– Полагаю, сознание своей вины выдает человека всего вернее. Но я надеялся сделать свою вину чуть менее очевидной и принял меры. Убедившись, что все разошлись по своим комнатам – все, кроме Пуаро, который, по одному ему известной причине, предпочел беспробудно храпеть в кресле на лестничной площадке, – я прокрался к Скотчеру в спальню и вылил остатки яда в его флакон, который, как я знал, содержал в себе ежедневное пятичасовое снадобье. Затем избавился от своего стакана из столовой, чтобы никто не смог отыскать следов яда в нем. Я отыскал его на кухне, разбил, а осколки подбросил в оранжерею, где еще раньше заметил разбитую банку и какое-то стекло.
– Так это вы стащили у меня стакан! – объявила Бригида Марш во всеуслышание. – А я-то была уверена, что это мистер Кэтчпул. – Примечательно, что смотрела она при этом именно на меня, а не на Кимптона, и отнюдь не добрым взглядом.
Тут я все понял: она заметила отсутствие стакана и по какой-то известной лишь ей причине решила, что это я взял его наверх, чтобы пить из него воду ночью. Вероятно, на эту мысль ее навели мои сухие губы – хотя и тут она ошиблась, губы у меня абсолютно нормальные, и я готов доказать это кому и когда угодно.
Как бы то ни было, Бригида, видимо, обыскала мою комнату и, не найдя стакана, решила, что я его разбил и выбросил – отсюда и анекдот о вороватом племяннике, который таскал из буфета конфеты и разбил вазу.
Пуаро отвечал Кимптону сурово:
– Я, может быть, и храпел на лестничной площадке, как вы выразились, однако не все разошлись по своим комнатам в ту ночь, доктор. Кэтчпул был в саду, искал мистера Гатеркола и мадемуазель Софи, которые отсутствовали одновременно. Он или они все могли вернуться в дом в любую минуту. И они действительно вернулись, хотя и немного позже. Вот вам уже три свидетеля, которые могли видеть вас в ту ночь выходящим из комнаты Скотчера или направляющимся в оранжерею, чтобы выбросить осколки. Вы не так умны, как вам кажется.
– Но это же очевидно. – Кимптон всплеснул руками. – А вот вы оказались куда умнее, чем я себе представлял. Насчет гроба – великолепная догадка!
– Верно, – согласился Пуаро. – Многое стало проясняться у меня в голове именно в тот миг, когда я понял истинный смысл метафоры, которой воспользовался автор «Короля Джона», – добавил он. – «Если ковчег – не вещь, а человек, то что за спор подслушал тогда мистер Рольф?» – задался я вопросом. Теперь я готов дать на него ответ. Спорили Рэндл Кимптон и Клаудия Плейфорд. Она знала, что ее жених намерен убить когда-нибудь Скотчера, и, боясь за него, пыталась отговорить его от этого поступка. Он сказал: «Ковчег[31] должен быть открыт – другого пути нет», – иными словами, «я должен убить Скотчера, иначе мне не успокоиться». На что она возразила: «Ничего подобного».
– И я была права, – сказала Клаудия. – Все уже и так пошло наперекосяк – за три дня до убийства, если быть точной. Я нашла стрихнин. Рэндл небрежно скинул пиджак, и чертов пузырек выпал из кармана. До этого я оставалась в блаженном неведении касательно его безумных планов. Поделись он ими со мной раньше, я бы уже давно высказала ему все, что я о них думаю. А я думаю, что это было чистое безумие – поступок свихнувшегося школяра.
– Чертовское невезение, что пузырек выскочил тогда из моего кармана, – сказал Кимптон. – Лучше б ты ничего об этом не знала, дражайшая моя. Знаешь, мне кажется, не узнай ты обо всем, я бы выпутался.
– Рэндл солгал, когда я спросила его, что там, – продолжала Клаудия. – Я видела, что он лжет. А когда я дала ему понять, что от меня так просто не отделаешься, он вынужден был рассказать мне правду. Так я все и узнала: и про Айрис Гиллоу, в девичестве Морфет, уроженку Оксфорда; и о том, как Джозеф впервые притворился смертельно больным много лет назад, и о том, как он сыграл роль собственного брата, чтобы придать видимость достоверности своему обману. Ну и, разумеется, о планах Рэндла совершить идеальное убийство.
То, что я услышала, сильно меня напугало, а это, смею вас заверить, бывает не каждый день. Мне вовсе не улыбалось, чтобы Рэндл рисковал своей шеей, да и вообще, во всей этой затее не было ровным счетом никакой надобности! Ведь и так было совершенно очевидно, что Джозеф отнюдь не умирает! И незачем было убивать его, чтобы доказать это.
– Я не мог ей объяснить, насколько мне было необходимо это доказательство, Пуаро, – сказал Кимптон. – Вот почему я рад, что вы меня поняли.
– Я с ума сходила от беспокойства и совсем забыла об осторожности, – сказала Клаудия серьезно. – Как я могла быть настолько глупа, чтобы обсуждать это дело в доме, где нас мог подслушать кто угодно… И подслушал! Орвилл Рольф. Я думала, что шекспировской метафоры хватит, чтобы пустить пыль в глаза кому угодно. Я ошибалась. Я виновата, Рэндл.
– Нет, моя драгоценная. Тут никто не виноват, кроме меня. Будь мой план и в самом деле так хорош, как я думал, мне не пришлось бы два года носить в кармане пузырек с ядом – по крайней мере, я мог бы положить его в другое, более надежное, место.
– Мадемуазель Клаудия, а вы в тот вечер заметили, что проделал со своим стаканом воды мистер Кимптон, прежде чем передать его Софи Бурлет для мистера Скотчера? Вы ведь тогда уже знали, что он носит с собой яд, как я понимаю.
– Да, знала, но я не видела, чтобы он клал что-то в стакан.
– Когда же вы узнали, что отравление произошло? – спросил ее Пуаро.
– Позже, в тот же вечер. После ужина и после всех волнений, которые доставил нам пищеварительный тракт мистера Орвилла Рольфа, мы с Рэндлом пошли спать. Вот тогда-то он и рассказал мне, что сделал с водой. Джозеф наверняка уже мертв, сказал он, утром найдут его тело, а пока надо пойти, прибрать стакан. У него щербинка на ножке, так что узнать его будет совсем нетрудно. А еще надо добавить стрихнин в один из якобы лекарственных пузырьков в спальне Джозефа. Тогда все поверят, что отравление произошло куда раньше, чем на самом деле.
Клаудия встала и направилась туда, где сидела леди Плейфорд.
– Я просто дымилась от гнева, мама, – сказала она, обращаясь к ней. – Ведь я не только попросила Рэндла оставить даже саму мысль об убийстве Джозефа, я приказала ему сделать это – в тот же день, еще до обеда. Но он меня не послушал! И все ради дурацкого заключения патологоанатома, в котором для нас не было ровным счетом ничего нового… Ради него он пошел на риск угодить на виселицу и оставить меня одну. Ладно, подумала я тогда. Он у меня узнает, что будущий муж Клаудии Плейфорд не имеет права оставлять без внимания ее приказы, это не сойдет ему с рук. И я сказала: иди, занимайся своими стаканами и бутылками. Едва он вышел из комнаты, я прокралась следом за ним на лестницу. Несколько минут спустя я слышала, как он вышел из спальни Джозефа и притворил за собой дверь, – значит, дело с отравлением кончено, сказала я про себя. Судя по затихающему звуку его шагов, я решила, что он идет в кухню искать стакан. И тогда я рискнула пойти в спальню Джозефа, зная, что не застану там никого, кроме самого Джозефа… И не надо смотреть на меня так, словно ты не представляешь, что было дальше! Он был мертв, я это видела. Валялся, как дохлятина, выражаясь словами Дорро. Я всунула его в инвалидное кресло, прикатила в утреннюю гостиную, вывалила на пол и, вооружившись папиной дубинкой, постаралась сделать так, чтобы план Рэндла потерпел катастрофу. Он не послушался меня, когда я просила его оставить свою глупую манию открыть тело Джозефа Скотчера, точно шкатулку? Отлично! Так вот, я накажу его, сделав причину смерти настолько очевидной, что никому и в голову не придет думать о вскрытии, – Рэндл не получит того, чего он больше всего жаждет, и поделом! Зато научится слушать меня в будущем.
Клаудия остановилась, чтобы перевести дух.
– Я не понимала, что любая насильственная смерть автоматически влечет за собой вскрытие. Рэндл сказал мне об этом потом, когда мы помирились. Да, слышишь, мы поцеловались и помирились! Я дала ему понять, что не прощу его никогда, хотя и люблю его. Я вообще не умею прощать. Одним словом, вот причина, по которой я размозжила череп уже мертвого человека. И знаете что, Пуаро? Мне это даже понравилось – понравилось разбивать череп Джозефу Скотчеру, до того я была вне себя от злости! Я была зла на Рэндла за его одержимость Джозефом и этим дурацким доказательством, которого он добивался всю жизнь; я была зла на Джозефа за то, что он заварил всю эту кашу своим бесполезным враньем; но больше всего я злилась на саму себя – за то, что продолжала любить Рэндла и слушать байки Джозефа даже тогда, когда мне самой стало ясно, что без них обоих моя жизнь была бы куда лучше!
– Как же твои слова ранят мне сердце, дражайшая моя, – сказал Кимптон со вздохом. В первый раз он не казался мне ни самодовольным, ни решительным.
– А что было после того, как вы добавили яд в синий флакон и избавились от стакана? – спросил его Пуаро.