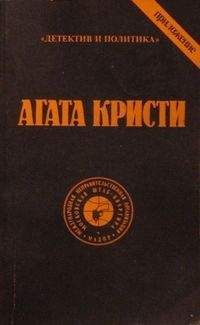– Мой дорогой Пуаро, – сказал я с легкой улыбкой, – кто бы я ни был, я не дурак. Ну что ж, – добавил я, слегка зевнув, – мне пора домой. Благодарю вас за чрезвычайно интересный и поучительный вечер.
Пуаро тоже встал и проводил меня своим обычным вежливым поклоном.
Пять часов утра. Я очень устал, закончил мою работу. У меня болит рука – так долго я писал. Неожиданный конец для моей рукописи. Я думал опубликовать ее как историю одной из неудач Пуаро. Странный оборот принимают иногда обстоятельства.
С той минуты, когда я увидел взволнованно беседующих миссис Феррар и Ральфа Пейтена, у меня появилось ощущение надвигающейся катастрофы. Я решил, что она рассказала ему все. Я ошибся, но эта мысль не оставляла меня до тех пор, пока Экройд в кабинете в тот вечер не открыл мне правды.
Бедняга Экройд. Я рад, что пытался дать ему возможность избежать такого конца, – я даже уговаривал его прочесть письмо, пока еще не поздно. Впрочем, нет, буду честен: ведь подсознательно я понимал, что с таким упрямым человеком, как он, это лучший способ заставить его не прочесть письма. Интересно другое, в тот вечер он смутно ощущал опасность, но я у него никаких подозрений не вызывал.
Кинжал был неожиданным озарением. Я принес с собой одну подходящую штучку, но, увидев кинжал в витрине, решил, что лучше использовать оружие, которое никак со мной не связано.
Наверное, я сразу решил убить его. Лишь только я услышал о смерти миссис Феррар, как тут же почувствовал уверенность, что она ему все рассказала перед смертью. Найдя его в таком волнении, я подумал, что, возможно, он знает правду, но не верит, хочет дать мне возможность оправдаться. Поэтому я вернулся домой и принял меры предосторожности. Если его волнение оказалось бы связанным только с Ральфом, что ж, они ничему бы не помешали. Диктофон он отдал мне за два дня перед этим для регулировки. В нем что-то не ладилось, и я убедил его не отсылать аппарат назад, а дать мне для починки. Я добавил к нему свое приспособленьице и захватил с собой в чемоданчике. В общем, я доволен собой как писателем. Можно ли придумать что-нибудь более изящное: «Было без двадцати минут девять, когда Паркер принес письма. И когда я ушел от Экройда без десяти девять, письмо все еще оставалось непрочитанным. У двери меня охватило сомнение, и я оглянулся – все ли я сделал, что мог?»
Ни слова лжи, как вы видите. А поставь я многоточие после первой фразы? Заинтересовало бы кого-нибудь, что произошло за эти десять минут?
Когда, уже стоя у двери, я обернулся и в последний раз окинул все взглядом, осмотр удовлетворил меня. Все было готово. И на круглом столике стоял диктофон, заведенный на девять тридцать. (Приспособление, которое я сделал для этого, было довольно хитроумным, построенным по принципу будильника.) А кресло я поставил так, что диктофон не был виден от двери.
Должен признаться, что встреча с Паркером у самых дверей напугала меня, что я честно и записал. А потом, когда тело было найдено и я послал Паркера звонить в полицию, – какой точный выбор слов: «Я сделал то немногое, что требовалось». А требовались совсем пустяки – сунуть диктофон в чемоданчик и поставить кресло на место. Мне и в голову не приходило, что Паркер заметит эту перестановку. В состоянии такого волнения логически он не должен был видеть ничего, кроме трупа. Но вот что значит глаз квалифицированного слуги! Этого я не учел.
Жаль, не знал я заранее, что Флора будет утверждать, будто видела своего дядю живым без четверти десять. Это привело меня в крайнее недоумение. Впрочем, мне на протяжении всего этого дела не раз приходилось недоумевать. Ведь создавалось впечатление, что все так или иначе приложили к нему руку.
Больше всего я боялся Каролины. Мне все казалось, что кто-кто, а она догадается. Как странно, что она в тот день заговорила о моей «слабохарактерности».
Но она никогда не узнает правды. Как сказал Пуаро, остается один выход… Я могу положиться на него. Он и инспектор Рэглан сумеют сохранить все в тайне. Мне не хотелось бы, чтобы Каролина узнала. Она любит меня, и, кроме того, она горда… Моя смерть будет ударом для нее, но любое горе утихает…
Когда я кончу писать, мне останется запечатать рукопись и адресовать ее Пуаро… А затем – что выбрать? Веронал? Это было бы своего рода возмездием. Хотя за смерть миссис Феррар я не считаю себя ответственным. Она была прямым следствием ее поступков. Мне не жаль ее.
Себя мне тоже не жаль. Значит, пусть будет веронал.
Досадно только – зачем понадобилось Эркюлю Пуаро, уйдя на покой, поселиться здесь выращивать тыквы?
Джоан Эшби выглянула из своей комнаты и замерла, прислушиваясь. Она уже хотела вернуться обратно, когда, чуть не под самыми ее ногами, раздался оглушительный удар гонга.
Джоан сорвалась с места и помчалась к лестнице. Она так спешила, что на верхней площадке с разгона налетела на молодого человека, появившегося с противоположной стороны.
— Привет, Джоан! Где пожар?
— Извини, Гарри. Я тебя не заметила.
— Я так и понял, — обиженно отозвался Гарри Дэйлхаус. — Но что это за гонки ты тут устроила?
— Гонг же был.
— Слышал. Но это ведь только первый.
— Да нет же, Гарри, уже второй!
— Первый.
— Второй.
Продолжая спорить, они спустились по лестнице. Когда они оказались в холле, дворецкий, только что отложивший молоточек для гонга, степенным размеренным шагом двинулся им навстречу.
— Второй, — настаивала Джоан. — Точно тебе говорю. Не веришь, взгляни на время.
Гарри Дэйлхаус посмотрел на большие напольные часы.
— Двенадцать минут девятого! — воскликнул он. — Похоже, ты права. Только все равно: не слышал я первого гонга. Дигби, — повернулся он к дворецкому, это первый гонг или второй?
— Первый, сэр.
— В двенадцать-то минут девятого? Дигби, кое-кого могут уволить за такие штучки.
Губы дворецкого растянулись в вымученной улыбке.
— Сегодня ужин будет подан десятью минутами позже, сэр. Распоряжение хозяина.
— Невероятно! — воскликнул Гарри Дэйлхаус. — Ну и ну! Хорошенькие дела, я вам доложу. Мир полон чудес. И что же стряслось с моим уважаемым дядюшкой?
— Семичасовой поезд, сэр, он опоздал на полчаса, а поскольку…
Раздавшийся резкий звук, похожий на удар хлыста, заставил его смолкнуть.
— Какого черта? — удивился Гарри. — Это сильно напоминает выстрел.
Слева от них открылась дверь гостиной, и в холл вышел смуглый привлекательный мужчина лет тридцати пяти.
— Что это было? — поинтересовался он, — Очень напоминает выстрел.
— Должно быть, выхлоп, сэр, — ответил дворецкий. — С этой стороны шоссе проходит совсем рядом, а окна наверху открыты.
— Возможно, — с сомнением произнесла Джоан, — но дорога ведь там, махнула она рукой вправо, — а звук, по-моему, шел оттуда, — показала она в противоположную сторону.
Смуглый мужчина покачал головой.
— А по-моему, нет. Я был в гостиной и готов поклясться, что это донеслось вон оттуда. — Он кивнул в направлении гонга и входной двери. — Потому и вышел.
— Итак: восток, запад и юг, — подвел итог Гарри, не выносивший, когда последнее слово оставалось за кем-то другим. — Чтобы дополнить картину, Кин, я выбираю север. Уверен, звук донесся оттуда. Какие будут предположения?
— Какие же еще, кроме убийства? — улыбнулся Джеффри Кин. — Прошу прощения, мисс Эшби.
— Да нет, ничего, — отозвалась Джоан. — Всего-навсего мурашки. Что называется, кто-то прошел по моей могиле.
— Убийство… отличная идея, — оживился Гарри. — Но, увы! Ни стонов, ни крови. Боюсь, максимум, на что мы можем рассчитывать, это кролик, застреленный браконьером.
— На редкость приземленно, но, полагаю, так оно и есть, — согласился Кин. — А стреляли совсем рядом. Однако давайте лучше пройдем в гостиную.
— Слава богу, мы не опоздали! — горячо воскликнула Джоан. — Я просто-таки скатилась с лестницы, решив, что дали второй гонг.
Дружно смеясь, они вошли в просторную гостиную.
Личэм Клоуз был одним из самых знаменитых старинных особняков Англии. Его владельцем, Хьюбертом Личэмом Роше, завершался славный и древний род, представители побочных ветвей которого любили поговаривать, что «Нет, кроме шуток, по старине Хьюберту давно уже плачет психушка. Совсем ведь, бедолага, спятил».
Даже со скидкой на присущую друзьям и родственникам склонность к преувеличению, в этом несомненно была какая-то доля истины. Хьюберт Личэм Роше был, как минимум, эксцентричен. Прекрасный музыкант, он тем не менее отличался совершенно неуправляемым темпераментом и доходящим до абсурда чувством собственной значимости. Его гостям приходилось либо разделять его пристрастия, либо перестать быть его гостями.