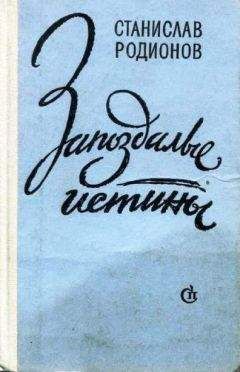— Странно… одно слово ровнёхонько, а второе в мелких уступчиках, будто штриховали.
— Мог писать старик.
— Слово старик, а слово молодой?
— Или в транспорте.
— Тогда откуда довольно-таки равномерное чередование?
— Ну, дорога такая…
— Думаю, что писали на столе, где что-то работало. Например, швейная машина. Скорее, пишущая — на ней стук ритмичнее.
Петельников помолчал, взглядом показывая, что оценил догадку следователя. И заметил вскользь, как бы пытаясь уравнять сделанную ими работу:
— Кстати, духи называются «Нефертити».
— Как же пахнут?
— Сильно, приятно, ново…
Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью…
… Поражают нас запахи не сильные, не приятные, не новые — нам ложатся на душу запахи прошлого, ушедшего, забытого…
Они медлили с разговором, словно боясь несовпадения добытой информации или блеснувших догадок. Поэтому инспектор разглядывал хризантему, благо она светилась почти у его глаз. Поэтому следователь протирал очки, уже скрипевшие от сухой чистоты.
— Что дал обход квартир? — не вытерпел Рябинин.
— Ничего.
— Все обошли?
— Кроме одной.
Тот внутренний голос — родственник интуиции — тихо, но настойчиво шепнул своё слово о нелогичной версии, о той самой, которая наугад, на авось, наобум. Рябинин встал и прошёл к сейфу, где из макулатурного угла высвободил погребённую там бумажку. И почти боязливо протянул её инспектору, который обежал написанный текст одним брошенным взглядом.
— Что это?
Рябинин через его плечо вгляделся в свой почерк, словно инспекторский вопрос исказил все буквы.
«Видимо, в белом плаще, среднего роста, молодая или средних лет, скуластая, крупные и хорошие зубы, губы тонкие, в ушах серьги с красными камешками…»
— Что это? — повторил инспектор.
— А разве не видно? — хихикнул Рябинин.
— Не видно.
— Преступница, словесный портрет.
— Откуда?
— Да так, случайно…
— Откуда? — звонче повторил инспектор.
— Из сна.
— Ага, во сне увидел, — согласился Петельников, затвердевая губами.
— А что?
— Инспектора уголовного розыска бегают, а следователь прокуратуры нашёл верного свидетеля и помалкивает, как частный предприниматель, — ответил Петельников уже не ему, а хризантеме.
— Предположить подобное может только узколобый хлыщ, — поделился с хризантемой и Рябинин.
— А увидеть преступницу во сне может только широколобый остряк, — разъяснил цветку инспектор.
Они бросили хризантему и встретились взглядами — они давно работали вместе, так давно, что и не помнили, когда начали дружить.
— Правда, если спать в очках… — добавил Петельников.
— Над физическим недостатком издевается, — опешил Рябинин.
И потерялся, следя за убегающей мыслью…
…Господи, не надо славы и приятной жизни, не надо денег, автомобилей и ковров… Ничего не надо — только не лишай единомышленников и единочувственников. Счастье не в единомыслии ли?
Вздохнув, Рябинин рассказал про сон потерпевшей. Инспектор слушал почти сурово, поигрывая молниями на своей папке из потёртого крокодила. Эта неожиданная суровость удивила Рябинина лишь сперва — Петельников старался показать, что всё воспринимает серьёзно.
— Вадим, в человеческой жизни сны занимают не последнее место. Почему же ими пренебрегать?
— Не вздумай это сказать прокурору или начальнику райотдела, — посоветовал инспектор.
— Но снами интересуются и криминалисты.
— Да, если психически больной человек видит во сне преступление, которое может потом совершить.
Рябинин знал, что непроверенных истин Петельников не признавал — даже очевидных. А уж сон-то…
— Эта женщина давно не видела тихих снов. Почему бы?
— Может, у неё что-нибудь болит, — усмехнулся инспектор.
— Душа. Она чего-то опасается. Чего?
— Мало ли чего. Например, измены мужа…
— Тогда попробую с другой стороны. Ты не связываешь два факта, потому что не знаешь одного обстоятельства.
— А ты заговорил языком инспектора Леденцова.
— Не знаешь, что похищенная Ира Катунцева ходила в тот же садик, где ты искал потерявшуюся девочку.
— Вот как…
Рябинин наслаждался. Уверенность скатилась с инспектора, словно её смыли ведром воды. Это ему за кофейный свитер и за литой торс. За брючки в стрелочку, которые гладил, наверное, с час, — за это ему.
— И обе в красных платьицах и очень похожи.
— Выходит, что преступнице была нужна только Ира Катунцева, — тихо сказал инспектор, уже позабыв про свою гордыню.
— А если так, — воспрял Рябинин, — то преступница выслеживала её у дома, где и попала в поле зрения матери. Но сознание потерпевшей эту женщину не восприняло — днём. А вот ночью она явилась во сне под видом какой-то ведьмы. Заметь, потерпевшая описывает её внешность, но не голос. Потому что видеть видела, а не говорила. Сны на пустом месте не рождаются.
Инспектор задумчиво отщипнул у хризантемы лепесток. Рябинин ждал его слов, намереваясь не допустить второго покушения на хризантему — Лидина ведь. Но Петельников молчал, снедаемый какими-то своими мыслями. Поэтому Рябинин добавил:
— И ещё. На допросе мать вдруг чего-то испугалась. Чего? Отец на допросе почему-то злился. На кого? На меня? Вряд ли. На преступника? Он что-то знает…
Петельников вжикнул молниями и спрятал рябининскую бумажку. Его лицо, освещённое додуманной мыслью, обратилось к следователю:
— Но женщина из сна совсем не похожа на женщину, про которую рассказала цыганка Рая.
— Да? — удивился Рябинин; удивился не тому, что они непохожи, а тому, что не догадался их сравнить.
— Сергей, — улыбнулся инспектор той улыбкой, которая бежала впереди него, — а не пора ли нам переменить профессию? Тебе, скажем, на библиотекаря, а мне на диск-жокея…
— Почему же?
— Что это за следователь прокуратуры, который строит версии на сновидениях? Что за инспектор уголовного розыска, получающий оперативную информацию у гадалки?
— Не рви хризантему, — буркнул Рябинин.
Из дневника следователя.
Я вхожу в комнату, а Иринка делает мне знак молчать — она слушает радио. Боже, монолог Гамлета «Быть или не быть…». Лицо сосредоточено, словно решает задачку. Бровки насуплены, рот приоткрыт, даже вроде бы и не моргает.
— Понравился? — спросил я после монолога, не понимая, чем он её привлёк.
— Всё правильно, — солидно заключила она. — Играешь в крестики-нолики и не знаешь, ставить или не ставить крестик…
В этот день Леденцов кончил работать по самой ёмкой версии — были проверены все подозрительные женщины города: судимые, лёгкого поведения, пьющие, тунеядки… Работа делалась для очистки совести, поскольку каждый инспектор знал, что этим женщинам дети не нужны — ни свои, ни чужие. Часов в девять вечера усталый леденцовский мозг вспомнил об одной непроверенной квартире; его усталый мозг о ней не забыл бы и на секунду, будь уверенность в успехе. Но приказ Петельникова есть приказ.
Чтобы скрасить дорогу, Леденцов купил пять жареных пирожков с капустой. Последний, пятый, он доел уже в полутьме лестницы, освещённой единственной лампочкой. Приметив бледную пуговку звонка, он утопил её с приятной мыслью о пирожках, которых всё-таки мало купил — восемь бы и все бы с мясом.
Дверь открыли так скоро, что приятная мысль о пирожках не успела пропасть — ну, хотя бы провалиться вслед за пирожками, — а лицо инспектора, по учению Петельникова, должно быть бесстрастно и бессмысленно, как чистый лист бумаги. Но во тьме передней никого не было.
— Давай, входи живей, — велел сухой голос из этой тьмы.
Леденцов послушно вошёл.
— Давай-давай, топай, — заторопил старушечий голос. — Чего опоздал-то?
— Служба, — на всякий случай разъяснил инспектор.
Сухие кулачки сильненько упёрлись в его спину, задав направление. Под их стремительным конвоем он миновал сумеречный коридор и вошёл в большую комнату, пасмурную от табачного дыма и тихого голубого света.
— Садись, уже кончается, — шепнула старушка, толкнув его на какой-то мягкий топчанчик.
Головы, разных размеров и на разных уровнях, кочками чернели там и сям. Лиц он не видел — они были обращены к телевизору, синевшему в углу, как распластанная прямоугольная медуза. Нешелохнутая тишина, казалось, ждала какого-то события, взрыва, что ли.
— Мама, его убьют? — спросил детский голосок снизу, с полу.
— Смотри-смотри…
Шла последняя серия детектива. Инспектор уголовного розыска — там, на экране, — поправил под мышкой кобуру и заиграл на пианино ноктюрн Шопена. Леденцов зевнул. Но инспектор уголовного розыска — там, на экране, — улыбнувшись красавице, у которой от ноктюрна Шопена раздувались ноздри, бросил клавиши, вырвал из кобуры пистолет и пальнул в рецидивиста, шагнувшего из-за бархатной портьеры. Леденцову хотелось пить — пирожки с капустой чувствовались. Седой полковник — там, на экране, — положил руку на плечо инспектора уголовного розыска — того, на экране, — и спросил: «Ну, теперь спать?» — «Нет, — ответил тот, на экране, — у меня билеты в филармонию…»