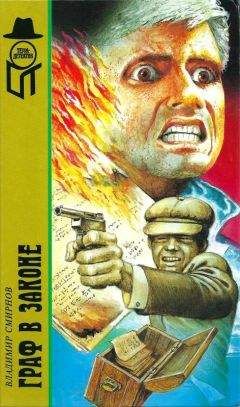Коврунов привстал, со светской любезностью кивнул и преданно глянул на Николая Николаевича. В нем чувствовался тертый, закаленный в перепалках чиновник (из тех старых грозных статских советников), который мог быть и мягким, располагающим к себе собеседником, и жестким руководителем.
— Стельмаха представлять? — спросил Николай Николаевич у Коврунова. — Как ваше мнение, уважаемый ректор? Молчишь?.. Представляю. Профессор Стельмах — герой войны, герой науки, герой газетных очерков и герой наших институтских будней. За его плодотворную подрывную работу в институте я бы ему еще один воинский орден вручил. Нет, правда, Иван Никитич. Ты генератор идей, ты катализатор, без тебя наш славный коллектив ряской бы покрылся, лягушатником бы стал. Лично я тебе признателен за это.
Нескладный, длиннорукий Стельмах слушал Николая Николаевича, воинственно выпятив нижнюю губу. В какой-то миг он хотел улыбнуться, но улыбка получилась жалкой и кислой.
За словами Николая Николаевича, за вымученной, скомканной улыбкой Стельмаха, за жестким, колючим взглядом ректора явно скрывался глубокий конфликт, бушевавший давно, не угасая. Сергей это видел, чувствовал, только не мог понять, объединяет этот конфликт сидящих в кабинете или разобщает, как противников.
— А что о тебе говорить, Захарка, прости, Захар Федотович? — обратился Николай Николаевич к квадратному тяжеловесу, который заполнил собой широкое кресло — даже тесновато ему в нем было. Тяжеловес поднял набыченную голову, в его маленьких глазах сверкала молнией ирония, — Нечего говорить. Ты у нас вечный доцент. Был до нас доцентом, будешь и после нас. Ты вечный, как Кавказские горы…
Как серая бесплотная тень, вплыла в комнату Глафира Николаевна, сестра Климова, двигая перед собой сервировочный столик с холодными закусками. Молчаливая, казалось, лишенная каких-либо чувств, с поддельной вежливо-скорбной улыбкой на лице. Оставив столик посреди кабинета, она по-монашески опустила голову и тихо удалилась.
После ухода Глафиры Николаевны в кабинете возникла неловкая, напряженная тишина. Захар Федотович заговорил первым:
— Юристы всегда приходят вовремя и вносят порядок в людские отношения. Внесите и вы, защитите мою простенькую аксиому: «Интеллигент — это человек, который профессионально занимается умственным трудом».
— Ер-р-рунда! — возмущенно, с целой россыпью «р» произнес Стельмах. Он как бы прихлопнул этим обидным словом все сказанное ранее, — Интеллигент — это прежде всего яркая творческая личность. А интеллигентность — это жизнь, функция оригинальной личности. Интеллигент не умеет ходить в строю, не умеет петь общие песни, не умеет дружно со всеми кричать «ура!» на демонстрациях.
Коврунов сухо, недобро рассмеялся:
— Слушаю тебя, а перед глазами возникает сад, где гуляют пациенты психлечебницы. Там такие оригинальные личности…
— Правильно, Даниил Петрович! — обрадовался Стельмах. — Ты верно подметил: шизофреник и интеллигент — аномалия. Шизофреник — отклонение в одну сторону, интеллигент — в другую. А посередине вышагивает бодрая, оптимистическая масса дипломированной серости. Согласен?
— Нет, — твердо парировал Коврунов.
— Значит, ты считаешь интеллигентом компилятора, раскладывающего по полочкам то, что уже открыто? Добросовестного комментатора чужих идей? Старательного чиновника, умеющего четко выполнять указания?
Николай Николаевич с шутливой грозностью приблизился к Стельмаху и сказал нарочито зловеще:
— Чего это ты затеял? Хочешь Коврунова из интеллигентов вышибить? Не выйдет, не дадим!
— Да при чем тут Коврунов! — отмахнулся Стельмах. — Мы все здесь…
— Что мы? — еще ближе подступился к нему Николай Николаевич. — Говори прямо! Интеллигенты мы или нет?
— Не знаю, — беспомощно признался Стельмах. — Пусть история рассудит… Внуки, может быть…
В разговор легко вступил Алябин:
— «О, Sancta simplicitas!» «О, святая простота!» — воскликнул Ян Гус, увидев, что какая-то старуха подбрасывает дрова в костер, на котором его сжигали… Да какие мы интеллигенты! Тень. Оттиск. Пародия… Люди высокой культуры? Нет. Кристальной честности? Нет! Ненавидящие приспособленчество? Нет… Везде — нет! Да, пожалуй, и не в этих качествах суть интеллигентности! Предлагаю вам определение: интеллигент тот, кто блюдет интересы общечеловеческого благоденствия. Хорошо сказано? Точно сказано. Слова академика Лосева, Алексея Федоровича. Выходит, что интеллигентность — не свод качеств, а исторически складывающееся состояние души. Это ежедневное и ежечасное желание что-то делать ради достижения общечеловеческого идеала, это постоянная созидательная работа духа, постоянное несение подвига, хотя часто только потенциальное…
Коврунов, явно настроивший себя на ироническое несогласие со всем, что здесь будет сказано, ядовито заметил:
— Высоко взлетел, Алябин! Такие характеристики дают только святым, которых выдумали верующие.
Стельмах привскочил с кресла, опираясь о подлокотники.
— Ох и любишь же ты, Даниил Петрович, всех носом в землю тыкать да приговаривать: «Не смотри на небо, не верь сказкам!..» А я скажу тебе: были такие, чья жизнь — служение общечеловеческому благоденствию, есть такие и будут! Иначе жизнь остановится. Но преобладающая серость очень не любит эту ершистую, нескладную интеллигенцию и выколупывает ее, выковыривает где только возможно.
— С этим мы согласны, — поспешно прервал его Николай Николаевич. — Но ты все-таки признаешь, что есть сегодня интеллигенция?
— Конечно, есть. Только кого можно считать сегодня интеллигентом — я не знаю. Мне кажется, что нынешний интеллигент в сравнении с интеллигентом дореволюционным — суррогат, высохшая корка от когда-то пышного хлеба.
— Или старая гетера, которая плачет о своей потерянной добродетели, — добавил Коврунов, подмигнув Николаю Николаевичу.
— Может быть… — равнодушно пожал плечами Стельмах, не приняв адресованного ему сарказма.
— Да где вы увидели интеллигентов? — воспротивился Алябин, обращаясь к Николаю Николаевичу. — Нет их у нас! И не надо тешить себя надеждой. Человек как разумное, суверенно мыслящее существо давно уступил место выскочке, жадному, с острыми локтями и угасающим разумом. Загляните в наши души — там не осталось нравственных ценностей… Спрятано? Нет, уничтожено! И так по всей Руси великой… Огромный опустошенный храм! Не обманывайте себя братством, честностью, милосердием… Ничего этого нет! Мы как голодные крысы в опустошенном храме…
Голос Алябина точно ворвался извне в комнату, прогремел с неожиданной бестактностью, и потускнели лица находившихся в комнате, на них появилась угрюмая озабоченность, но не тем, о чем говорил Алябин, а другим, совсем не относящимся к его словам.
Сергей понял, что разговор завершается, поскольку он принял слишком опасное направление: никто не захочет в какой раз эксгумировать прошлое, чтобы после неизбежных оправданий снова найти единственное спасение в постыдном покаянии.
Видимо, это почувствовал и Алябин. Прервав самого себя и снизив тон до примирения, он с горечью заключил:
— A-а, к чему эти словесные упражнения?! Истина никогда не станет среднеарифметическим разных мнений…
Сергей смотрел на именитых людей как зритель, со стороны. А слышал странное: лишь слабое эхо, неясный отголосок давности, когда эта тема была жгучей, будоражила умы. Здесь же страстность выглядела чужой, взятой напрокат, доводы затерты от частого повторения, голоса ностальгически надрывны. Даже слово «интеллигент» звучало отчужденно, так обычно произносят архаичные понятия — опричник, статский советник или гладиатор. Он хотел об этом сказать, но не отважился, боясь обидеть почтенное собрание…
— А почему мой сосед сидит, как в гостях? — возмутился Николай Николаевич. — Налить ему!
— Тост нужен, Коленька, — словно прося прощение за что-то, сказал Захар Федотович. — Мы, люди, воспитанные в строгих организациях, без призывного лозунга не можем.
— Я давно подозревал, Захар, что в тебе живет еще кто-то по распоряжению начальства, — сказал Стельмах. Его лицо смягчилось, исчезло воинственно-грозное выражение.
— Живет, черт побери! — улыбнулся Захар Федотович, как бы получив прощение, — И в тебе живет, сознайся! Так уж образованы. Помнишь, у Евтушенко: «Мы вынесли из Мавзолея его, но как из наследников Сталина Сталина вынести?!» Это, хочешь не хочешь, большая беда нашего века. Мы вот сейчас, нищенствуя, боремся со всякими ордами бюрократов, казнокрадов, подхалимов, а сами, по сути дела, одиноки.
— У тебя есть предложение? — спросил его Коврунов.
— Есть, Даниил Петрович. Конкретное предложение. Разрешите изложить?
— Излагай! — Коврунову явно нравился этот неунывающий доцент.