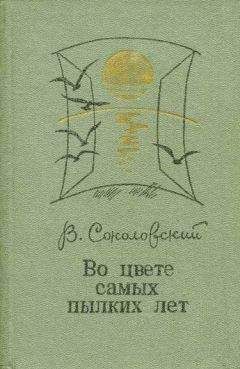Кашину стал неприятен этот разговор, и, чтобы прекратить его, он спросил:
— Слушай, Степа, ты такую Симу Караваеву не знаешь?
— Караваеву, Караваеву… — Казначеев закатил глаза, пощелкал языком. — А! На конфетной фабрике работает?!
— Все-то ты знаешь.
— А мы три месяца назад ихнюю ячейку проверяли. Я в комиссии был. Обуржуазились девчата. В чулках шелковых ходят. Помню я эту Симу. Тоже курочка… Она что, нравится тебе?
— Как сказать…
— Нравится, значит. Постой! А ты помнишь Володьку Дядьева? В реальном на класс старше нас учился. Верзила такой стал. Он теперь в политехникуме учится. Так вот — я их позавчера вместе видел.
Слова эти поразили Семена в самое сердце.
— Ты не ошибся? — схватил он Степку за локоть. — Это точно они были?
— Какие, к черту, ошибки? — обиделся тот. — Чай, не темно еще было.
— А может, это они просто так, — цеплялся за соломинку Кашин. — Ну, встретились, погуляли, мало ли…
— Так я разве что! Может, так оно и было. Иду, смотрю — гуляют. Под ручку, правда.
Этими словами, сколь бы правдивыми, искренними и доброжелательными они ни были, Степа отплатил Семену за все сегодняшние унижения. Кашин сразу сник, сел на лавочку и пробормотал:
— Ну что, ну что она в нем нашла!
— Выходит, нашла! — подливал друг масло в огонь. — Он ведь не только студент, он еще и поэт, в литкружок при газете ходит, голубую блузу носит. Не то что мы — оперá зачуханные. Да шучу, шучу, не дергайся. Ну, случилось такое — ну и что теперь, стреляться, что ли? Забудь ты ее, мещанку.
«Легко тебе сказать», — думал Кашин. Но и Степа, глядя на его лицо, тоже расстроился. Умолчать, не рассказать про Симочку и Дядьева, уж коли зашел разговор, он не мог, потому что всегда говорил прямо в глаза все, что думал и знал. Оставалось только сочувствовать.
— Да не переживай, — сказал Степа Кашину. — А то я сейчас тоже рассоплюсь, а мне этого сегодня нельзя. Мне еще тормозного кондуктора надо дождаться, а вечером собрание проводить. Что же с этим Тимкой Кипиным делать, вот ума не приложу…
— Ты же тогда твердил мне: дезертир Тимка, дезертир трудового фронта! Вот и поступай соответственно.
— Но ведь сам-то ты по-другому думал!
— А, ладно! — Злому на весь свет Семену было не до Кипина. — Вон мой поезд идет.
— Так ты правда, что ли, сестру встречаешь? — заморгал глазами Степка.
— А ты думал — шпиона, что ли? Эх вы, опер Казначеев… Ну, пока!
— На собрание-то придешь?
— Приду.
Подошел, с лязгом и скрежетом остановился поезд. Семен пошел вдоль вагонов, высматривая Надьку. Он знал, что сестра страшно любит прятаться и потом с визгом вылетать из неожиданных мест, и поэтому часто оглядывался. Но все-таки прокараулил: она наскочила сзади, обхватила и завопила на весь перрон:
— Ага-а! Попался! Пошто вчера кусался?
А когда он повернулся, она уже стояла, смирная, склонив набок голову, и глядела на него.
— Ну, здравствуй, путешественница! — Как он ни был с ней строг, а все же не мог удержаться: обнял ее. — Что ж ты нынче так рано приехала?
— Я, Сеничка, очень по тебе наскучалася, — как-то очень уж преданно смотря ему в глаза, ответила сестра. — Да и надоел мне этот ихний сенокос. Все мои ноженьки, все рученьки я на ём исколола.
— Так вот почему ты удрала! Хитрюга! С этого и начинала бы. И картошки свежей не попробовала?
— Попробовала, Сеничка! И тебе привезла. — Она подняла с земли холщовый мешочек. — И тетя Шура с семейством велели тебе кланяться.
Семен не видел Надьку целых два месяца, за это время она еще больше вытянулась, похудела и теперь походила на белого голенастого цыпленка, только-только начинающего отращивать перья.
«Опять сколько одежи надо! — сокрушенно подумал Семен. — Все равно за зиму все издерет».
— Ну, пошли! — сказал он. — Сейчас сварим картошки, самовар поставим, а там и подружки твои набегут. Я им сказал, так они с утра уж небось сами не свои.
И, взяв у сестры мешочек с картошкой и букет полевых цветов, Семен двинулся вместе с ней по перрону. Его друг, агент первого разряда Степа Казначеев, провожал его взглядом. Степе было грустно, что у него нет ни сестры, ни брата младше его возрастом, кого можно было бы вот так вот встречать или провожать. Да, в конце концов, иной раз просто отругать по-родственному.
Из газеты: Кинореклама «ВОЗВРАЩЕННЫЙ СВЕТ» Выпуск Межрабпом «Русь»
Трахома — опаснейшая социальная болезнь. Особенно широкое распространение получила она в условиях старого помещичье-капиталистического строя. Картина отличается простотой художественной постановки и бесхитростностью сюжета.
На примере больных Василия, Константина и Дуняши и их полного выздоровления в трахомной больнице зритель ясно видит, какую работу по борьбе с трахомой провела и продолжает вести Советская власть.
«Возвращенный свет» — хорошая картина.
Наряду с такими картинами, как «Аборт», «Дети — цветы жизни», она стремится к поднятию культурного уровня зрителя, приобщению его к советской общественности и помогает ему ознакомиться с работой Советской власти по борьбе с трахомой.
Петр Живущий
В середине августа дожди пали на город. Обильные, с ветром, хлестали по мостовым, крышам, окнам. Артель не работала целую неделю, и всю эту неделю Малахов с Абдулкой-приемышем высидели на крыльце больницы: ждали, когда откроется приемный покой и можно будет увидеться с Машей. Она попала сюда на другой день после того вечера в ресторане, когда убит был Сашичка Черкиз: вдруг поднялась температура, начались рвота, бред — и увезена была в медицинском экипаже. Три вечера подряд рвался к ней Малахов; его не пускали, говорили, что больная в тяжелом состоянии. На четвертый разрешили пройти в палату. Он дрожал от нетерпения, переобуваясь в тапочки, потом оттолкнул санитарку и вихрем понесся по коридору. Забежал в палату. С нескрываемым любопытством глазели лежащие женщины, значительно поджимали губы, перешептывались. «Экие полоротые!» — с досадой подумал Николай. Около Машиной койки он опустился на колени, что-то забормотал, прижался к разметанным по больничной ватной подушке черным густым прядям. Она с трудом повернула голову в его сторону:
— Коленька, милый мой…
Он припал щекой к ее горячему лицу, спросил:
— Ну, что это с тобой? Разве можно… болеть-то так…
— Ох… — Она хрипло, с трудом засмеялась. — Разве ж я виновата, золотко мое? Устала… враз скрутило…
Он прислонился головой к спинке кровати и заплакал.
— Эй, растютюй! — крикнула какая-то бабенка. — А ну, кончай реветь! Без тебя тут реву не хватает. Гли, бабы, что за мужики пошли — ну ни стыда, ни совести.
С того дня здоровье Маши пошло на поправку. Последние дни она уже поднималась, подходила к окошку и улыбалась, маячила им, уныло мостящимся на залитом дождем крыльце. Иногда дежурным нянечкам становилось жалко Малахова с Абдулкой, они открывали дверь и пускали их внутрь, советуя хорониться от врачей. Спускалась Маша, и все трое забирались куда-нибудь в уголок, садились на стулья и сидели молча, положив руки на колени. Тихо иногда разговаривали: о будущем, о том, как станут жить, когда Маша вернется домой, как будут жить через месяц, год… Вечером Николай с приемышем собирались и шли домой. Шлепали по лужам вдоль улиц, мимо зданий, мимо раскинутого посреди городской площади шатра шапито. Там, внутри, за намокшим брезентом, поквакивал оркестрик, гукал клоун под рев радостных глоток:
Учиться я отправил тещу —
Учить писать, учить считать;
Теперь она всегда считает…
Что я подлец и негодяй!
— Может, зайдем — хочешь? — спросил как-то Малахов.
— А ну его! — отмахнулся приемыш. — Что я — ребенок, дите?
Николай засмеялся, хлопнул Абдулку по спине:
— Потешный ты, брат Абдул! А жить-то сколь хорошо — чувствуешь?
Бывший беспризорник недоверчиво усмехнулся.
Звездочка, однажды взошедшая высоко-высоко, недосягаемо почти, грела теперь, была рядом, близко; свистел ли ветер вдоль улиц, сбивая первые листья, всходило ли позднее солнце над тьмами живущих надеждой людей — она спускалась, незатмеваемая, прожигая подбитый ватой пиджак. Малахов опускал руку на стриженую голову мальчугана, заглядывал в глаза ему: «Ну как, хорошо тебе?» Тот ежился, вырывался и уходил горбясь, руки в карманы; но кто видел, как плакал он, убегая к реке, к месту, где встретил некогда Малахова? Он сам упросился ходить на работу вместе с Николаем, мостить улицы, и Малахов обрадовался: зачем, правда, мальчишке скитаться одному по городу, когда дома нет — даже поесть сготовить некому. Написанная Малаховым перед походом в угрозыск записка давно уже была разорвана и брошена в печку. С этим покончено — Фролковы, Коты, уголовный розыск… Живи спокойно, зачем тебя туда понесло? — злился он на себя. Раньше надо было думать!..