Потому что он был в саду? Да, наверное, поэтому. Это было так странно…
Непонятно, что он делал в темном саду и почему смотрел на нее из кустов, прячась… Он не откликнулся, когда она его позвала из окна… Значит, тот, кто был в саду, знал, что вы его увидели? Да. Хотя в доме было темно, но Пьер мог ее разглядеть в окне, и он ее слышал… Значит, в саду был ее муж?.. Она не может сказать. Может быть… Может быть, Пьер…
Полицейский, казалось, обалдел от этой путаницы.
Посовещавшись с коллегами, они объединили обе группы, и теперь и Соня и Пьер сидели вместе в окружении черных мундиров.
— Что вы делали в саду? — спрашивали они Пьера.
— Я там не был, — отвечал тот.
— А где вы были?
— В гараже.
— Что вы делали в гараже?
— Мне показалось сегодня, что у меня в моторе странный шум. Вот я и смотрел.
— А кто был в саду?
— Я не знаю.
— Кто был в саду, Соня?
— Я… я не знаю.
— Вы сказали, что узнали своего мужа.
— Кажется… Я не уверена… Я не знаю.
— Кто вошел в дом?
— Пьер.
— Вы сказали, что человек из сада пробирался к входной двери?
— Да…
— И вошел в дом?
— Да…
— И это был ваш муж?
— Да… — Значит, это он был в саду?
— Наверное…
— Что вы там делали, господин Мишле?
— Я там не был. Я был в гараже.
— Вы уверены, что в дом вошел ваш муж? Это не мог быть кто-то другой?
— Это был Пьер. Он открыл дверь своим ключом. И я слышала его голос.
— Вы уверены, что в тот момент, когда вы увидели человека в саду, ваш муж уже приехал домой?
— Да. Свет из гаража падал на газон…
— Значит, в саду мог быть ваш муж?
— Мог.
— Человек был примерно какого роста?
— Не знаю… Я не успела рассмотреть… Сверху не очень понятно…
— Но это мог быть ваш муж?
— Мог…
— Во всяком случае, вы не заметили ничего такого в этом человеке, что бы могло свидетельствовать о том, что это не ваш муж?
— Я не поняла ваш вопрос…
— Вы не заметили, что, например, человек в саду был намного меньше ростом вашего мужа, или намного толще его, или, допустим, в очках?
— Нет.
— Значит, это мог быть господин Мишле?
— Да.
— Вы были в саду, господин Мишле?
— Нет, я же вам сказал!
— Ваша жена вас звала. Почему вы не откликнулись?
— Я не слышал.
— Не слышали?
— В машине работал мотор. А я находился возле машины.
— С каким намерением вы вошли в дом?
— Бог мой, этой мой дом, я имею право туда войти без всяких особых намерений!
— Вы звали вашу жену?
— Да.
— Откуда вы знали, что ваша жена дома, если в доме было темно?
— Я думал, что ее нет…
— Так почему же вы ее звали тогда? Вы знали, что она дома, потому что это вы были в саду и слышали…
— Дайте мне договорить… Я думал, что ее нет, но удивился — это было так странно… И я ее позвал на всякий случай.
— Она откликнулась?
— Нет.
— Но вы продолжали ее звать? Вы были уверены, что она дома!
— Я увидел в гостиной на полу ее куртку и туфли, когда зажег свет… И потом, у меня было такое чувство… Чувство ее присутствия.
— Она откликнулась на этот раз?
— Нет.
— Вы ее больше не звали?
— Я услышал какой-то звон… Она что-то уронила. Я ее снова позвал, она не ответила… Мне это показалось странным, я думал, что-то случилось, нехорошее что-то, или что в дом кто-то забрался… я был очень обеспокоен и решил подняться наверх, чтобы посмотреть, что там происходит… А она стала убегать от меня.
— Что вы делали в субботу, в день, когда снималась последняя сцена с месье Дором, с одиннадцати до пятнадцати часов?
— Искал подарок моей жене… на ярмарках…
— Нашли?
— Нет.
— Вы можете указать кого-нибудь, кто может подтвердить, что вас видели на этих ярмарках?
— Не знаю… Я ничего не купил, так просто бродил, время еще есть до ее дня рождения…
— Вы убили вашего тестя?
— Нет!!!
— Зачем вы закопали тело месье Дора в саду?
— Вы сошли с ума. Я требую адвоката.
Это безумие продолжалось еще некоторое время до тех пор, пока полицейский, осматривавший дом, не протянул без слов кинжал из коллекции Пьера.
Воцарилась полная тишина. Реми приблизился, чтобы получше разглядеть заинтересовавший полицию предмет. Затем полицейские поднялись, тихо перекинулись двумя словами между собой, Реми что-то спросил, ему что-то ответили, и они направились к выходу, сообщив Соне, что ее муж задержан до прояснения некоторых обстоятельств.
Они покинули дом, уведя потерянного и обессиленного Пьера.
Врач, смерив еще раз Сонино давление и велев ей не волноваться и пить успокоительные средства, также оставил их.
В доме стало неожиданно и пронзительно тихо. Включенные повсюду светильники заливали желтым неестественным светом опустевшее пространство гостиной, словно сцену, с которой ушли актеры.
Соня устремила взгляд на оставшихся сидеть в углу гостиной Реми и Максима. Они оба встали, чувствуя неловкость, и подошли поближе к ней, не зная, что сказать, искать ли слова утешения и поддержки или уж лучше промолчать, чтобы не сфальшивить.
Соня тоже молчала. Ее лицо, казалось, осунулось, ее карие глаза, оттененные черно-синими тенями, сделались особенно большими; ее смуглая кожа была столь бледной, что казалась пергаментно-желтой, и ее обычно свежие, розовые губы побелели и потрескались, словно их обметало сухой коркой. И, глядя на нее, Максим вдруг понял, что он ее любит. И от этого ему сделалось еще хуже.
— Постарайтесь не расстраиваться так сильно, — зажурчал Реми, беря Сонину холодную ладонь, — я не хочу вас обманывать, ситуация не очень благоприятна для вашего мужа, но пока что все на уровне гипотез, предположений.
Надо подождать экспертиз, тогда можно будет уже о чем-то судить… Соня кивнула.
— Я позвоню вам завтра, как только у меня будут новости, — говорил Реми, — я все разузнаю и сразу же вам позвоню… У вас есть адвокат?
Соня снова кивнула.
— Вы с ним свяжетесь, я думаю? Еще один кивок.
— Если хотите, я вам найду лучшего адвоката, и сам посмотрю, что можно сделать… Мне нужно все это обдумать.
— Не беспокойтесь, — сказала Соня. — Спасибо.
— Не буду вас больше утомлять… Вам надо отдохнуть… — бормотал Реми, продвигаясь к выходу. — Максим, вы едете домой?
Максим, так и не произнесший ни слова за все это время, смотрел на Соню. Соня глянула на него и прикрыла глаза.
— Он едет, — сказала она устало, — спокойной ночи.
— Может быть… — начал Максим, — мне лучше тебя не оставлять одну?
— Не беспокойся.
Его больно царапнул этот ответ. Ну что ж, рассудил он, выходя из ее дверей, раз она так — пусть. Навязываться он не будет. В конце концов он ей предложил просто поддержку, чтобы не оставлять ее в такой момент в одиночестве.
Если она не нуждается в поддержке — тем лучше для нее. Тем лучше для него. Он может со спокойной совестью возвращаться домой. Да, именно домой, в Москву.
Печаль была цвета кофе, цвета Сониных глаз, — единственной краской на бесцветном полотне времени — время зависло в пространстве, и стрелки лишились циферблата, прокручиваясь бешено и бессмысленно в безнадежной пустоте — пустоту плотно штриховал бесконечный дождь беспросветной поздней осени; осень монотонно шелестела мокрыми шинами, мертвыми листьями и дождем, и только одна пронзительная нота выбивалась звуком и цветом не в лад: нота печали. Печаль была цвета кофе, цвета Сониных глаз…
К окну льнуло холодное дождливое утро, словно надеялось пригреться у человеческого жилья. Максима знобило, тело болело, посасывало в области сердца и в области души. Вылезать из постели не хотелось, но было нужно: его вызывали в полицию для дачи показаний.
Он спустил ноги на пол. Который раз за эти две недели в Париже он вставал, разбитый поздним сном, вялый и уже с утра усталый, — это он, приучивший себя вставать легко и рано, с гимнастикой и песенкой под душем; это в Париже, который предполагался быть праздником.
Оказалось, что праздник, по крайней мере, его личный, — остался в Москве. В Москве, где, будучи красивым мужиком и известным режиссером, он привык, что жизнь вертелась вокруг него, а он представляет ее центр — центр внимания, восхищения, поклонения, обожания и женской борьбы за его блистательную режиссерско-мужскую персону. И он эту обременительную миссию выполняет с достоинством и без заносчивости, умея приветливо привечать всех, кто попадал в его орбиту, щедро раздавая улыбки, нежные взгляды, интервью и автографы.
Все было не так здесь, во Франции, — он не был центром, он не был известным режиссером — вернее, был, конечно, но где-то лишь на периферии сознания окружающих. Этот факт не ставил его в центр внимания, и его мужские достоинства оставались без должной оценки и применения. Во Франции он оказался рядовым персонажем — если и не массовка, то так, на вторых ролях.
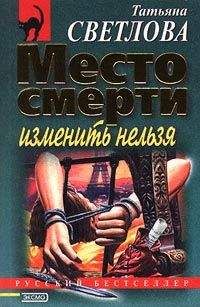
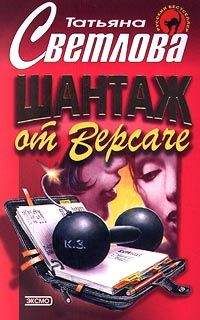

![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](https://cdn.my-library.info/books/60019/60019.jpg)

