Все было не так здесь, во Франции, — он не был центром, он не был известным режиссером — вернее, был, конечно, но где-то лишь на периферии сознания окружающих. Этот факт не ставил его в центр внимания, и его мужские достоинства оставались без должной оценки и применения. Во Франции он оказался рядовым персонажем — если и не массовка, то так, на вторых ролях.
Это было непривычно и неприятно.
Он чувствовал себя одиноким, ненужным, лишним.
Он чувствовал в себе тоскливую пустоту в том месте, которое должна была занять любовь.
Он чувствовал себя неуверенно-раздраженно, словно актер, который взялся играть неподходящую ему роль.
И еще он чувствовал страх. Он не испытывал его до сих пор — ни тогда, когда на него мчалась машина, ни в первый раз, ни во второй; ни тогда, когда он осознал, что кто-то имеет миленькое намерение его убить; — ему стало страшно именно теперь, когда было найдено полуразложившееся тело Арно, с такой наглой жестокостью закопанное в саду его дочери. Вот теперь у него появилось такое чувство, словно он заглянул в лицо убийце. Ему даже казалось, что он мог бы его узнать. Стоило только удержать в воображении чуть-чуть подольше это лицо — и он его узнает. Что-то ему смутно виделось, что-то ему грезилось, что-то ему нашептывалось… Это было странное ощущение, и, несомненно, ложное, он бы не смог выразить, что там варит ему интуиция, и все же…
И все же — глупости все это. Кажется, он заболел.
Вместо обычного душа он предписал себе горячую ванну, в которую погрузился по нос, пытаясь, впрочем, без всякого успеха, что-нибудь понять.
Из ванны он вышел ничего не понявший, но твердо решивший: «Домой. В Москву. И ничего не хочу понимать. Даже вникать ни во что не хочу. И участвовать — тоже. В Москву».
Он позвонил в Аэрофлот. Девочки предложили подъехать, пообещав ему билет на послезавтра.
Послезавтра он будет дома.
Вернувшись из полиции, он обнаружил у подъезда нескольких журналистов.
«Что вы думаете об убийстве вашего родственника?» «Правда ли, что вы являетесь наследником туалетного столика, принадлежащего королеве Ла Гранд Катрин?» «Не собираетесь ли поставить фильм по этой истории?» — совали они ему микрофоны в рот.
— Я не говорю по-французски, — отвел Максим от своего лица микрофоны, — извините, господа.
Дома он крепко запер двери — от журналистов всего можно ожидать — и позвонил Вадиму, чтобы сообщить о дате отъезда. Сильви даже не позвала мужа к телефону. «Он так устал, у него депрессия, он плохо себя чувствует, провел бессонную ночь, — проворковала она в трубку, — он спит, я ему непременно все передам…»
Ну и хорошо, пускай спит. Максима больше не интересовал ни сценарий, ни совместный фильм, ни тем более проблемы Вадима.
Он набрал номер Реми.
Детектив, казалось, огорчился, узнав, что Максим покидает Париж.
«Единственный, кому до меня есть дело, — подумал Максим. — Не родственник, не женщина, не поклонник моего таланта — детектив, с которым у меня ничего общего…»
— Может, заскочите ко мне, если время позволяет, — тепло сказал ему Максим. — Новости расскажете. У вас ведь есть?
— Так, чуточку.
— Ну вот и расскажете «чуточку». Поужинаем вместе… Идет?
— Я перезвоню, — сказал Реми. — Если смогу — то с удовольствием.
Покинув Аэрофлот, Максим пошел по Елисейским полям, вдыхая, вбирая на прощание воздух Парижа.
Теперь, когда у него лежал в кармане билет, груз забот и печалей как бы отодвинулся, отступил, словно билет в Москву образовал между ним и всеми событиями некую дистанцию, если еще не в пространстве, то в ощущениях. Даже боль от страшной дядиной смерти притихла, притупилась. Хотя бы настолько, что сейчас, впервые со дня своего приезда, он по-настоящему залюбовался Парижем.
Нарядный, как рождественская игрушка, этот город был полон ленивой неспешности, праздничной праздности; улицы и кафе были заполнены неторопливым народом, врастяжку смакующим Париж. Это было как теплая утренняя нега, как расторопный поднос в постель, и кофе с горько-терпкой, будоражащей ноздри поземкой седого парка на черной обжигающей поверхности, и — обещанием удачи — сдобный, чуть сладкий дух горячих круассанов… Это было как вечерний бокал красного вина, в котором плещет, разбивая рубиновые грани, свеча, и капля сползает по тонкой ножке, и, бледнея, медленно впитывается в розовую скатерть, и ты перекатываешь и греешь во рту терпкий глоток, вчувствоваясь в весь его букет, во все оттенки вкуса и запаха, и потом проглатываешь, слушая, как он медленно втекает в тебя, оживляя и снимая усталость…
Так Париж втекал в вены чистой энергией стройных архитектурных линий, всегда праздничной палитрой витрин, кафе, цветов, налетающей с ветром старой песенкой Ива Монтана, которую играет на аккордеоне мальчик, обходя кафе…
Максим не много путешествовал: видел Германию и Штаты; но уже знал, уже чувствовал, что Париж — это пространство, на редкость успешно гармонизированное человеком и не имеющее себе равных на земле.
До свидания, Париж. Надеюсь, мы с тобой еще встретимся. В других, лучших обстоятельствах…
На автоответчике Максим нашел послание. Он нажал кнопку. Ровный Сонин голос говорил: «Похороны должны состояться в понедельник, время и место уточню позже…»
У Максима было такое чувство, что он получил оплеуху. Он покраснел — хорошо, никто не видит! — и сел на стул.
Как же он не подумал? Как он мог забыть, не сообразить, не учесть, не понять — что должны еще быть похороны и что он не может на них не присутствовать?! Как он мог, эгоист несчастный, приготовиться сбежать, словно прыщавый мальчишка с комплексами неполноценности? Не любят его здесь, видите ли! Стыд какой.
Еще остался последний долг перед дядей.
Как жаль, что последний.
Он снова шел по Елисейским полям — на этот раз, чтобы переоформить билет. Париж потерял свое обаяние, померк, закрылся. Это был просто шумный и праздный столичный город, полный туристов и бездельников; город, в котором жил его дядя; город, в котором убили его дядю.
Следовало ответить на Сонин звонок. Максим долго делал круги вокруг телефона, проговаривая вслух фразы, которые он собирался ей сказать. Почему-то это было чудовищно сложно — сказать простые слова сочувствия, предложить помощь… Она была с ним намеренно холодна, подчеркнуто холодна, и он не знал, как ему теперь себя вести.
Бесплодно промучившись минут двадцать, он положился на судьбу и набрал ее номер. Телефон трясся в его руке так сильно, что ему даже стало смешно.
Все мучения, однако, были напрасны: то ли Сони не было дома, то ли она не желала подходить к телефону, но у нее включился автоответчик.
«Спасибо за звонок, — говорил Максим магнитофону таким же ровным голосом, как Соня ему, — я непременно буду. Если тебе нужна моя помощь, позвони мне, я буду рад быть полезным».
Он все еще сидел у телефона, задумавшись, когда раздался звонок. Максим вздрогнул, и сердце его ухнуло: Соня!
Но это был Реми.
— Я лучше придумал, — сказал детектив. — Я вас приглашаю поужинать со мной.
— Да что вы… — начал было Максим, но детектив перебил его:
— Во-первых, вы уезжаете, во-вторых, я у вас в долгу. А я не люблю быть…
На этот раз его перебил Максим.
— Я перенес отъезд на вторник. В понедельник будут похороны.
— Это ничего не меняет, — сказал Реми. — В семь часов — вас устроит? — я за вами заеду.
— Идет, — ответил Максим. — Спасибо.
Третий раз за этот день он оказался на Елисейских полях. В немецком ресторанчике, хитро расположившемся в одной из многочисленных торговых галерей, выходящих на Елисейские поля, они ели шукрут — тушеную капусту с различными сосисками и копченостями, — запивая темным густым сладковатым пивом. Глянув на Максима, Реми спросил, прожевав:
— Вы не заболели?
— Нет… Скорее так, настроение…
— Понимаю.
Реми сочувствовал. Это бывало с ним не всегда. Сталкиваясь со смертями и с близкими родственниками умерших, он зачастую ограничивался сочувствием к умершим, но далеко не всегда к их близким. Он умел отличать взгляды, застывшие от горя, от взглядов с застывшей пустотой. Он чувствовал, когда слезы уже выплаканы и когда слезу не выдавишь. Он чувствовал меру, в которой горе не фальшиво, и фальшь, которая перехлестывает через меру. Максим был ему симпатичен ненаигранностью своего переживания, которое, может быть, не было слишком глубоким (да и не могло быть, он ведь практически не знал своего дядю!) — но и не показным. И Реми приступил к отвлекающему маневру — а именно: к отчету о своих расследованиях.
— Вы даже не можете представить, какую информацию я раскопал о Мадлен!
— интриговал он.
— Да что вы? — вяло спросил Максим.
— Представьте себе, у Мадлен имеется в распоряжении заявление, заверенное нотариально, в котором Арно признает свое отцовство!
— И что это дает?
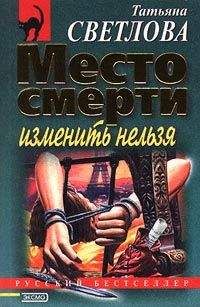
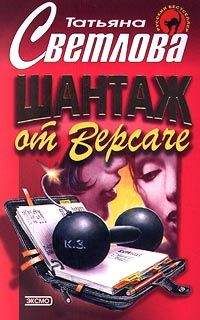

![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](https://cdn.my-library.info/books/60019/60019.jpg)

