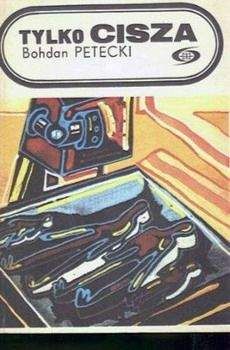на отсечение, Виктор, что они там.
Волнение его улеглось. Он видел цель и более в себе и своих выводах не сомневался. Сизый смотрел вперед, крутил баранку и шипел сквозь зубы, когда что-то в переменчивой мозаике на дорожном полотне не укладывалось в его планы.
За окнами на крыльях фейерверков и огненных шоу летела последняя ночь ангела. Город не знал об этом. Люди пили и пели, танцевали и обнимались. Было что-то языческое, идолопоклонническое в том, как расписаны были изображением одного и того же улыбающегося лица стены и автобусы, куртки и окна. На выезде из города, когда они проезжали место, где прежде красовалось «Слово» кисти Полонского, дань его отношению со сплетниками и прессой, Гуров повернулся на сиденье, сомневаясь, не показалось ли. Не показалось — зияющая дыра, из которой вынули труп, уродливый шрам на теле картины, был украшен цветами. На асфальте у пролома также лежали цветы, мелькнули огоньками зажженные свечи. Что это было? Дань смертной муке, которую принял здесь неудачливый журналист Гагик Микоян? Или скорбь по погубленному гопниками слою краски на старательно выровненной Анатолием Миловановым штукатурке? Аджею поклонялись как сверхчеловеку, и одновременно с этим Сифонов был готов подать его своим гостям, как рыбу к пиву. Любой скажет, что цвет ангела — белый, и нимб его горит бледным золотом, и никто не хочет знать о том, что он живой человек. Что засыпает, едва обретя точку опоры, и что на домашней футболке его носорог.
Не доезжая до «Обетованного», который гремел басами колонок и полыхал огнями, на фоне темного горизонта похожий на лесной пожар, они свернули на грунтовку. Стало кромешно темно, освещение на дороге, ведущей к старым развалинам, администрацией Онейска не планировалось. Ничего там не могло понадобиться затемно никому, кроме настоящего самоубийцы. Даже отъявленные головорезы из легендарных девяностых не привезли бы сюда свою жертву ночью в багажнике. Но однажды, в солнечном свете, Толик из клуба «Новый день» показал это место Аджею Полонскому. Художник восхищенно крутил головой, оглядывая мощные стены и башни с обрушившимися лестницами, колодцы и ямы кладовых погребов, уходившие глубоко под землю. Если бы Толик был обычным убийцей, Аджея бы не нашли никогда. Но его вела идея. А виновник его безумия в тот день был счастлив, как дитя, и страха не ведал. Рядом стояли погруженная в планшет Оксана и верные телохранители. И ничего, кроме подходящей стены под финальную его работу, под последний штрих в ярком, нервном, головокружительном полотне его стремительно начавшейся и клонившейся к закату карьеры, он не видел. Никто не знал об этих его задумках — расцветить летящими мазками последнюю стену и уйти. Никто не знал о девушке Насте. Аджей смеялся и думал: «А славная будет шалость», и ничего не боялся. Он бросился и в эту авантюру так же, как во все предыдущие. Всем телом, как бессмертный. Вечный подросток, которому исчезнувшие родители не рассказали, что бывают на свете угрозы и опасности, с которыми не справиться в одиночку.
Столбы фар то погружались в невидимые во тьме ямы, то взмывали вверх. Гуров обреченно прощался с фактором внезапности: в такой темноте их будет видно издалека. Единственный шанс не сталкиваться с Миловановым напрямик и не рисковать жизнью заложника виделся ему в том, что Толик рядом со своей жертвой не сидит, а уехал домой, доверив хлороформу и времени делать свое дело. О том, как именно маньяки упаковывают своих жертв, замуровывая в стену, он не имел ни малейшего представления. Думать о том, дышит еще художник или нет, было контрпродуктивно, и Гуров сосредоточился на настоящем.
Въезд в ворота монастыря можно было смело назвать эпическим. В другое время Гуров бы остановился поснимать. А Крячко наверняка бы попробовал забраться на уцелевшую створку высоких ворот и был бы упорен, несмотря на риск свернуть себе шею. Сейчас, в темноте и колеблемых ветром тенях подлеска, полуразрушенные стены навевали воспоминания об историях о призраках и заточенных на чердаках свихнувшихся родственниках. Гранд по сохранению наследия онейский монастырь не взял, администрация от реставрации исторического памятника открестилась. В начале двухтысячных какие-то дельцы хотели из убежища люда божьего сделать казино, лихо состряпали проект и даже взялись за ремонт и строительство. Но, как водится, то ли подвело финансирование, то ли посреди процесса ребята поняли, что в порядок приводить придется не только монастырский комплекс, но и дорогу к нему, и признали проект нерентабельным. Так и висел он на балансе города мертвым грузом. Возможно, именно поэтому Аджей, превращавший все, к чему прикасался, в предмет культа, увидев громоздкие каменные строения в окружении крепостной стены, загорелся дать монастырю второй шанс.
Была у Полонского мечта сделать из этого места культурную достопримечательность или нет, но прямо сейчас в свете фар Гуров видел лишь изрытую тяжелой техникой землю, горы мусора и полуразрушенные строения с темными провалами окон.
— Выходим, — тихо произнес Сизый, открывая дверь. — Машину придется здесь оставить, если уезжать придется быстро, не выберемся оттуда, я рисковать не стану.
Осторожно ступая и подсвечивая под ноги телефонами, они вошли на территорию монастыря. В голову пришла мысль, имеет ли смысл разделяться ради поисков. Ведь если кто-то из них сломает ногу в этой темноте… Гуров не успел додумать, что было бы, когда заметил на уровне второго этажа, на остром осколке стекла в окне, оранжевый отсвет. В ту же секунду Витя указал на него рукой, а после кивнул в сторону, где между кучами и ямами можно было обойти постройки вдоль стены.
Гуров увидел начало картины на боку высокой, плавно обегающей монастырь стены задолго до того, как заметил костер, горящий за поворотом. Насколько он помнил, ни на одной из своих картин Аджей не писал крыльев, которыми наградила его молва. Он-то точно знал, что на ангела непохож. Но, может, светлая грусть от скорого, неожиданного расставания с публикой, со вспышками камер и прямыми эфирами сыграла с воображением художника шутку? И он решил своей фантазии не противиться. Распростертое по стене крыло было огромным и каким угодно, только не белым. Каждое перо его было выписано отдельно, и каждое несло на себе отпечаток воспоминания — серые окна детдома и ряды одинаковых алюминиевых мисок с кашей, зеленая листва, облитая бликами весеннего солнца. Первые синяки и вспыхнувшее нежным румянцем лицо девочки со смущенной улыбкой и опущенными ресницами, лет двенадцати. Красные фонари на пустынных городских улицах и вспухшие синие вены на бледных руках. Одинокая рюмка водки и десятки лиц у трапа самолета — восторженные,