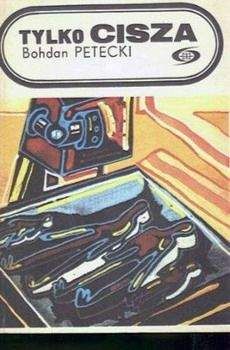плачущие, счастливые. И много, много чего еще. Если там, дальше, есть второе крыло, то никакой камере с самой крутой панорамой этого не охватить. Это полотно создавалось без мыслей о том, как его будут умещать в снимки.
Гуров и Сизый шли не таясь, лишь Витя держался чуть поодаль, в тени. Подкрадываться не имело смысла. Так они и увидели костер, на том месте, где по замыслу между двумя крыльями должен был стоять человек. На месте силуэта, который уже никому не суждено увидеть, теперь красовалось влажное пятно свежей, любовно выглаженной штукатурки, шире и на голову выше Гурова. На высоте груди из шва между кирпичей торчала крупная рукоять ножа с уходящим в глубь стены лезвием, несколько свободных сантиметров золотились в свете костра.
Толик, сидевший у костра на корточках, поднялся на ноги и мягко, как на плечо друга, положил ладонь на костяную рукоять.
— Здравствуйте, — голос Толика был спокоен и бесплотен, точно такой же, каким он разговаривал всегда, на работе и в клубе. — Вы рано. Но это ничего, мы уже почти попрощались.
За спиной Гурова раздался негромкий электронный писк. Это Виктор вызывал подкрепление и «Скорую». Он шептал в трубку, осторожно хрустя гравием и отходя в тень. Расклад сил был предельно ясен и им, и Милованову. Аджей еще жив, если только Толик не беседовал по привычке с собственным воображением. Неизвестно, как проникает к заложнику воздух, и неизвестна длина лезвия, вошедшая в его тело, но он еще дышит. Фотограф не придает никакого значения собственному будущему, но всерьез намерен пленника убить. А значит, все будет зависеть от того, насколько они смогут протянуть время.
— Здравствуй, Толик. — Гуров слышал собственный голос будто со стороны. Доброжелательный и неожиданно сиплый, наверное, от дыма. Он припомнил, как в самом начале их знакомства Витя говорил, что «только так говорить с ним и можно, сперва хвалить, а потом понемногу, без нажима, спрашивать. Как с ребенком». Вот только не бывает среди детей маньяков и убийц. — Рад, что вы поговорили по душам, ты так этого ждал. О чем шел разговор?
«Что я несу? — пульс стучал в висках так, будто безумный колокол, подвешенный у темени, трясся в неподвижной голове, лупил острыми краями по тонким косточкам. — Нужно протянуть время. Нужно… Отвлечь, занять этого урода разговором, а тем временем Витя обойдет развалины и нападет на него со спины. Наши будут добираться около часа. Не меньше. Да и появление команды с мигалками нестабильного психа растревожит. Может быть, Аджей отделается головной болью. А может, он кровью истекает сейчас. Нужно действовать». Гуров встряхнул кисть опущенной руки, как будто хотел оживить от немоты. И когда поглядевший на нее Милованов снова поднял взгляд, незаметно покрутил указательным пальцем, надеясь, что Виктор его поймет. Сделал пару шагов в сторону, заслоняя напарника и переключая внимание Толика на себя. Разговаривать так разговаривать, хвалить значит хвалить.
— Это впечатляет, Анатолий. Как у тебя фантазии хватило только увидеть в этой стене заготовку под… Такое. — Он оглянулся, будто окидывая взглядом живописное полотно. — Ты, наверное, и помогал Аджею здесь, а?
— Не помогал!
Это было неожиданно и так громко, что Гуров вздрогнул. Милованов взвизгнул, тонко, по-девчачьи, два слова осколками эха рассыпались по руинам.
— Почему же? Разве это не ваша общая работа?
— Я тоже так думал! — всегдашнее спокойствие покинуло Милованова. Он говорил, все больше распаляясь и сжимая крепче рукоять ножа. Откашлялся, видимо. Взяв себя в руки, продолжил: — Я, как только увидел эту стену, понял, что она для него. Для ангела. Больше никто не сотворит чудо, не вдохнет в старые стены жизнь!..
Гуров вопросительно поднял брови и даже сочувственно покивал, приглашая продолжать. Давно у Толика не было шанса побыть настолько значимым. Получить собеседника и слушателя, настолько увлеченного его словами, будто от этого зависит его жизнь. Это натолкнуло Льва на мысль, что такие важные для человека минуты стоит записывать. Очень медленно, не глядя, потому что делать это приходилось часто, нажал на две иконки на сенсоре мобильного и повернул его камерой к костру.
— Я думал, мы будем вместе здесь! Как в детстве! Я не художник, но я мог помогать: держать лестницу, подавать краски… Но он мне не позволил! Не то что фотографировать, даже просто приезжать запретил. Он же тут неделями жил, в палатке. Совсем один! Что ему стоило меня пустить?
«Ничего не стоило, конечно. — Гуров вздохнул. — Если бы ты, Толик, хоть немного знал Аджея, настоящего, а не ангела из твоих фантазий, ты бы знал, какое для него сокровище — каждый миг, когда на него никто не смотрит. Не любуется им, не критикует. Не оценивает. Не изводит бесконечными «а помнишь?». Да он, живя тут, наедине с самым большим в жизни холстом и красками, едва ли музыку включал, чтобы та не мешала ему быть наедине со своими мыслями. По-настоящему прощаться».
— Но ты все равно ему очень помог, Толь…
Гуров уже почти раскачался для того, чтобы сделать шажок к костру — совсем маленький, скользящий, — когда увидел то, от чего у него похолодело внутри. Говоря с ним, Милованов, осознавая, что делает, или нет, незаметно качал рукоять ножа, торчащего из стены. Если оружие достигло цели, то сейчас он расширяет рану пленника.
Ни звука не раздалось в ответ.
— Я всегда ему помогал. — Милованов смотрел на Гурова так же, как в первый день, но что-то неуловимо изменилось в блеклом лице и невыразительном голосе. Невидимое никем за всю его жизнь, в глазах Толика сияло торжество победы. Осознание того, что все было не зря. — Я был его тенью. Я всегда был рядом и пришел бы на помощь. Стоило только позвать! Вы думаете, я обижаюсь на него, Лев? Это совсем не так. Он — ангел, они живут по своим законам. Но вы все не понимаете одного. Ангел должен вернуться домой…
— Толя… Толик, прекрати это, пожалуйста…
— АНГЕЛ! ДОЛЖЕН! ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ!
Сам того не замечая, Милованов кричал. Странно съеживаясь на каждом слове, будто откровенный разговор с кем-то, кроме его фотографий, вызывал у него реальную физическую боль.
— А дом его на небесах! Ведь здесь что он видел, Лев? Что хорошего дали ему все эти люди? Альбина Никитична не любила его никогда. Другим карамельки совала, а ангела шпыняла только. Писака — тот поливал его грязью, пачкал имя! Быков хотел отравить его! Об этом кто-нибудь знает? Ангел неделю под капельницей пролежал, не вставая, ведь это была такая