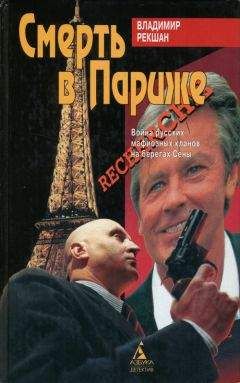— Что за праздник? — настороженно спросил я.
— Наши все узнали! — с удовольствием ответил мсье.
— И что же узнали? — Мне его веселость не нравилась.
— Марканьони в Бретани нет. — Мсье картинно развел руки. — А все, кто нас прикрывал в Москве, — на кладбище.
— На каком? — машинально спросил я.
— Точно не скажу, но явно где-то неподалеку от Кремлевской стены!
Проросшая за последние дни щетина сделала лицо Гусакова знакомым и, что смешно, почти родным.
— И главный киллер Европы вернулся в Париж, чтобы убить нас! — Николай Иванович пропел и рассмеялся. Звонко и весело.
Ничего не оставалось, как засмеяться вместе с ним.
Выходим из дома сразу после полуночи. «Народный вагон» неслышно трогается с места, и я перестаю обращать внимание на то, что происходит за окнами. Там происходит безлюдная и неуютная ночь, да я и не очень представляю, куда мы едем. Представляю приблизительно. Последние два дня Гусаков посвящал меня в курс грядущей операции, имеющей целью реализовать часть схемы, услышанной мною после похода в зоопарк. Одним словом, нам предстояло напасть на ферму в Бретани, нанести ей заметный ущерб и вернуться обратно, никого не убив, а только попугав. «Никого не убить! Как это себе Гусаков с Габриловичем представляют? — думал я. — А если нас встретят стрельбой?» Гусаков говорил, что на ферме сейчас только один охранник и несколько конюхов. Охранника надлежало слегка ранить — так, чтобы он якобы чудом уцелел. О'кей, я готов. Только вот помповое ружье я держал в руках всего один раз в Герате…
И еще — я да люди Габриловича обязаны в Бретани выкрикивать фразы на сербском языке, чтобы оставить, так сказать, славянский след. То есть подставить миланское общество, до которого нам, понятно, дела нет. Но подставить — это и есть подставить. Гусаков сердито ответил, будто бы он не подонок и найдет в Милане концы, предупредит. Осталось только узнать какие-нибудь сербские фразы и не материться на русско-татарском. «Можете только имена выкрикивать, — посоветовал Николай Иванович. — Слободан, например!»
Поплутав по улицам, «народный вагон» вырвался на простор; через некоторое время дорогу опять обступили строения, и я понял — мы едем к пресловутому цеху-ангару, где прячется или базируется, или то и другое одновременно, мсье Александр Евгеньевич. Что ж, рад, что его здесь еще не накрыли…
На этот раз у ворот машин не видно. Но нас ждут — ворота откатываются в сторону, и Гусаков въезжает внутрь.
Вижу троих бойцов Габриловича. Это мужчины средних лет с суровыми лицами. Интересно, каким я кажусь со стороны? Вылезаю из «фольксвагена» и обмениваюсь рукопожатиями.
— Гаврила, — говорит первый.
У него черная вьющаяся шевелюра и тяжелая нижняя челюсть киногероя.
— Арсен, — говорит другой.
Этот подстрижен под новобранца, но, судя по тому, как от нервного тика дергается веко, человек знает, почем фунт лиха.
— Паша.
У третьего лицо бледное, и его черты скорее могли бы говорить о принадлежности к миру свободных профессий, чем к стрельбе по живым объектам, хотя в определенном смысле все это одно и то же.
Троица одета в синие комбинезоны с белыми буквами на спине. Внутри ангара кроме двух «рено», которые я уже наблюдал при первом посещении сего чуда промышленной архитектуры, стоит еще и микроавтобус без окошек. Там, где у пассажирских окошки расположены, опять же накрашены белые буквы. О чем-то электрическом идет речь. То есть мы станем изображать работников электрической компании.
Гусаков направляется в конторку и тут же возвращается из нее с мсье Габриловичем. Тот деловит и угрюм. Я подхожу и протягиваю руку:
— Как поживаете?
Мсье смотрит мне в глаза и усмехается без намека на дружелюбие:
— Вашими молитвами.
Гусаков уводит меня за конторку в подсобное помещение, где я и переодеваюсь в комбинезон, натягиваю кроссовки. Мою же одежду Николай Иванович складывает в сумку и уносит в машину, но не в «фольксваген», а в салатного цвета «рено» Габриловича.
Перед отъездом мы становимся кружком, и Александр Евгеньевич повторяет то, что мне и так известно. На всякий случай мы получаем по сербскому сувениру. На всякий случай! Знаю я эти случаи! Если вместо живого меня, который отвалит, останется мой трупак, которому уже некуда будет спешить… Короче, мне дают православный образок с Божией Матерью и сербскими буквами — кириллицей на обороте, с именем Слободан. Гусаков слов на ветер не бросает, блин! Сказал — Слободан, Слободаном я и стал. Паша получает пачку сербских сигарет. Их он должен «потерять» в Бретани.
Начинаем размещаться в микроавтобусе. Арсен садится за руль, Паша рядом с ним, Гаврила и я в кузове без окошек. В этом самом кузове моток провода и прочие декорации. Под декорациями ящик, в котором короткоствольные автоматы и помповые ружья. Небольшое окошко все-таки имеется — нам виден затылок Арсена. Габрилович поедет с нами до Шато-Гонтьер, Гусаков же доедет до самой фермы… Меня, конечно, интересует география, но не очень…
Мы разъезжаемся в разные стороны, договорившись встретиться уже на трассе за Парижем.
…В детстве я был лунатиком. Выходил по ночам из коммунальной квартиры на Кирочной на лестницу, старался подняться на крышу и походить под луной. Родители установили дежурство и ловили меня.
В нашей квартире жил историк. Он давал мне толстые книги по истории феодализма, и я читал их. Родители восторгались, и мне нравились их похвалы.
Только лунатизм их беспокоил. Мама отвела меня, восьмилетнего, к врачу, и тот, поцокав языком, заявил:
— У мальчика умственное развитие опережает физическое. Надо ему заняться спортом.
Меня отдали заниматься спортом, и я стал в итоге профессиональным спортсменом-стрелком. До сих пор стреляю. И более по ночам не хожу. Видимо, физическое развитие сравнялось с умственным. Или даже опередило. Иногда я все-таки хожу по ночам, но это вовсе не лунатизм. Жаль, что я не настоящий лунатик…
Сбоку имелась скамеечка, и я завалился на нее, положив голову на моток провода. Я стал проваливаться в жесткую солому дремоты, не успев даже переброситься парой фраз с Гаврилой. А ведь нам вместе жить ближайшие часы и, возможно, умирать…
— …Раз-два. Раз, два, три, четыре!
Колонна идет мимо трибун по Дворцовой площади, и я вместе с ней. Мне нравятся демонстрации и веселый отец, веселые его друзья. Только шариков с водородом у меня никогда не было. Некоторые мальчики нарочно отпускали их, и шарики летели высоко в северное небо. А взрослые за праздничным столом после демонстрации тревожно говорили про водородные бомбы…
Автобус делает резкий поворот, и я чуть не падаю со скамейки. Успеваю, опустив ногу на пол, предотвратить падение. Широкая ладонь Гаврилы придерживает меня за плечо. Открываю глаза и сажусь. В темноте только красная точка сигареты, а над сигаретой контур носа и черные овалы глазниц.
— Спасибо, — говорю, — чуть не свалился.
— Будешь курить? — спрашивает Гаврила, и я отвечаю:
— Да. Угости. Я свой в пальто оставил.
Он протягивает пачку, и я на ощупь вытаскиваю сигарету. Поминальный огонек зажигалки. Затягиваюсь и пускаю дым.
— Долго нам ехать?
— Несколько часов.
Мы друг друга практически не видим. А поскольку практически не знакомы — это и к лучшему.
Пытаюсь придумать тему для беседы — не придумывается. «Все вы потерянное поколение», — вспоминается вдруг фраза, сказанная давно и в Париже молодому Хемингуэю. «Потерянное поколение — отлично! — хочется произнести в ответ. — Только кто нас потерял? Кто потерял, тот уже не найдет!»
— Все-таки попробую поспать. Лови меня, если что.
— Поймаю, — отвечает Гаврила.
…Я люблю возиться с цветными карандашами. Пароходам я пририсовал оранжевый дым, а Сталина в энциклопедии украсил синей бородой.
После — время, валенки с калошами…
Первый раз я влюбился… Лет пять или шесть мне было — не больше. Я ходил в детский сад на набережной Кутузова. В доме, где находилось дошкольное учреждение, когда-то жил Пушкин, а теперь там загс… Мы ходили гулять в детский сад и там собирали желуди. До сих пор я помню солнечный осенний день, красно-золотые листья дубов и кленов. И какое-то мучительное чувство ревности. Первая моя любовь оказалась неразделенной. Поэтому я до сих пор отношусь к женщинам с подозрением…
Я собираю марки и жду, когда объявят коммунизм. Тогда я пойду на угол Невского и Литейного и наберу кучу китайских марок задаром. Я жду, жду, жду и — перестаю ждать. Теперь марок у меня нет, потому что коммунизма так и не объявили…
— Пора идти за дровами, — говорит отец, и мы начинаем собираться: топорик, веревка, фонарь.