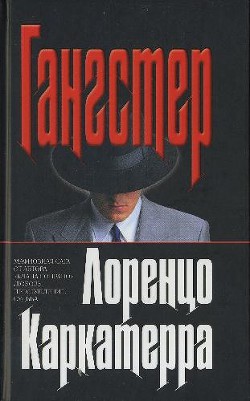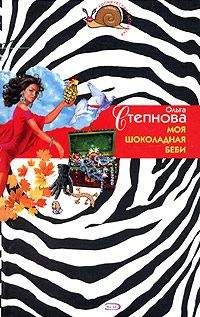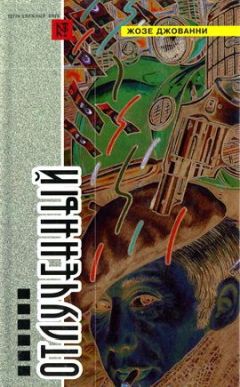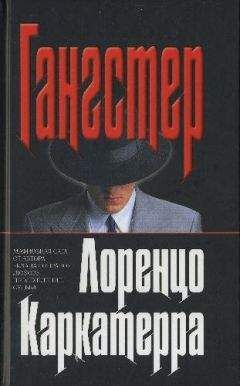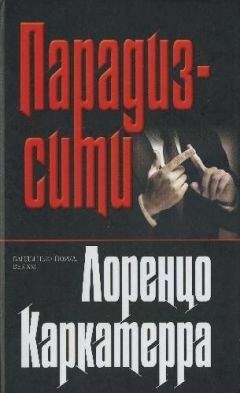И сейчас я выплескивал весь накапливавшийся во мне годами гнев, изо всех сил пиная Майкла в бока и по спине. Мои черные ботинки безошибочно попадали в цель, их закругленные носки то ударялись о кости, то проваливались в мякоть.
— Нет! — орал я на него после чуть ли не каждого удара. — Все сейчас закончится! Закончится сейчас!
Я краем глаза видел, как его друзья спускались по ступенькам школьного крыльца, прижимаясь друг к другу и с испугом наблюдая, как их совсем недавно непобедимый вожак пытается уползти и спрятаться где–нибудь в безопасном углу, который, как ему представлялось, находился за мусорными баками. А я продолжал пинать его, весь запас накопленного во мне яда изливался разом в виде абсолютного, ничем не сдерживаемого насилия. Мое тело было покрыто холодным потом, а вокруг уже столпилась кучка прохожих, пяливших глаза, разевавших рты и что–то бормотавших под нос — в общем, наслаждавшихся кровавой сценой. Я еще раз всадил ногу ему прямо под ребра и услышал, как он вскрикнул и закашлялся; кровавый след, показывавший, где он полз, протянулся от крыльца до угла школьного здания. Я отступил на полшага, снова отвел назад ногу, чтобы нанести еще один сильный удар, но вдруг мощная рука обхватила меня за талию, приподняла в воздух и оттащила от избитого мальчишки.
— Ты победил, малыш, — сказал Пуддж мне прямо в ухо. — Так почему бы нам с тобой не уйти отсюда?
Я повернулся, чтобы посмотреть ему в лицо, и кивнул, проводив взглядом каплю пота, упавшую с моего лба на рукав его пиджака.
— Я этого не хотел, Пуддж, — сказал я. — Они, наверно, пойдут жаловаться братьям, но не я все это начал.
Пуддж поставил меня на асфальт, подошел к мальчикам, все еще стоявшим на ступеньках, и внимательно посмотрел каждому из них в лицо.
— Поднимите вашего друга и отведите его куда–нибудь, где он сможет умыться и почиститься, — приказал он. — Если бы на вашем месте был я, то позаботился бы о том, чтобы в школе не придавали значения таким вещам. Чем меньше посторонних будет знать о том, что здесь случилось, тем лучше будет для всех вас.
Мальчики медленно прошли мимо Пудджа, изо всех сил стараясь не смотреть ему в лицо, наклонились и подняли Майкла на ноги. Спереди его рубашка вся пропиталась кровью и прилипла к телу, как вторая кожа, голова болталась, свисая на сторону, он не мог самостоятельно держаться на ногах. Я смотрел как его уволакивали прочь. Теперь, когда мой гнев выплеснулся, я жалел, что не уклонился от этой драки, как делал много раз прежде. Я посмотрел вниз и увидел большие красные пятна — единственное свидетельство случившегося. Толпа зевак быстро рассеялась, не столько напуганная появлением Пудджа, сколько из–за того, что зрелище закончилось.
Пуддж похлопал меня по плечу и кивнул на все еще валявшиеся на тротуаре учебники.
— Будет лучше всего, если ты их быстренько подберешь, и мы с тобой уйдем отсюда.
— Мне очень жаль, Пуддж. Я не хотел, чтобы все так вышло. Он просто искал повода подраться, а я свалял дурака и дал ему такой повод.
Пуддж стоял надо мной, глядя, как я собираю учебники и тетради в мою школьную сумку.
— Дурак здесь был только один, и, конечно, не ты. Этот парень искал, о кого можно было бы безопасно почесать кулаки, а к тому времени, когда выяснилось, что насчет тебя он ошибся, он уже успел потерять кварту–другую крови.
— Ну, останется пара шрамов, а синяки и вовсе скоро пройдут, — сказал я. — Вот и все, что с ним может случиться. Он местный, живет здесь. Ему ничего больше не грозит. А мне будет плохо. Я же приемный. Как только станет известно, кто его побил, меня вышвырнут из школы, и с первого числа следующего месяца я уже буду жить в другом месте.
— Ну, это не так уж обязательно, — отозвался Пуддж; мы шли с ним бок о бок, направляясь к 10‑й авеню. — Народ здесь старается не говорить вслух о таких вещах.
— Со мной такое уже случалось, — сказал я. Мне было трудно поднять голову, шею и плечи ломило так, что боль отдавала в спине. — Из одной школы меня выгнали без всякой драки. Один мальчик из класса позвал меня к себе посмотреть телевизор. Его мать увидела меня и разозлилась. На следующий день она заявилась в управление опеки и нажаловалась, что я плохо влияю на ее сына. Они каждое воскресенье делали пожертвование в церковь, а мои тогдашние родители уже искали возможность сбагрить меня куда–нибудь. Вот и сбагрили.
— Что было, то было, — сказал Пуддж, по своему обыкновению пожав плечами. — Тогда ты не знал ни меня, ни Анджело. А теперь ты не один. Мы позаботимся, чтобы с тобой ничего такого больше не случалось.
Я остановился и повернулся к Пудджу, выронив сумку с книгами из рук с разбитыми, покрасневшими и распухшими костяшками.
— Почему? — спросил я его. — Почему вы решили заботиться обо мне?
Пуддж положил мне руку на загривок, не обращая вни–мания на гримасу боли, непроизвольно появившуюся на моем лице.
— Потому, малыш, что давным–давно, задолго до твоего появления на свет кое–кто нашел меня и Анджело и позаботился о нас. Может быть, теперь наша очередь поступить так же.
— Что ж, надеюсь, что смогу чем–нибудь отплатить вам.
Пуддж снял свою тяжелую руку с моей спины и указал пальцем на противоположную сторону улицы, где красовалась вывеска «Пиццерия Макси».
— Я люблю пиццу, но терпеть не могу есть ее в одиночестве. А раз у нас есть ты, у меня больше не будет такой проблемы.
Мы пересекли улицу, успев до появления машин, сорвавшихся с недалекого светофора. Воздух был наполнен ароматом пекущихся в духовке пицц, и воспоминания о жестокой уличной драке постепенно отходили куда–то в глубины памяти.
Глава 14
Лето, 1965
Я сидел за маленьким кухонным столиком, стиснутый между Джоном и Вирджинией Вебстер; мы втроем вкушали обед из жареного бифштекса с томатным соусом. Мы ели молча, не сводя глаз со стоявшего в углу нового белого портативного телевизора, показывавшего вечерние новости. В лос–анджелесском районе Уатт разразилось массовое восстание — десять тысяч чернокожих разгромили, разграбили и сожгли несколько кварталов с населением в пятьдесят тысяч человек и нанесли ущерб на сумму свыше сорока миллионов долларов. Для усмирения бунта было призвано пятнадцать тысяч полицейских и национальных гвардейцев, но он утих лишь после того, как тридцать четыре человека были убиты и четыре тысячи — арестованы. Двести коммерческих предприятий разорилось и погибло безвозвратно.
Эпизоды, разворачивавшиеся на экране, походили на жуткие кадры из фильма ужасов. Телекамеры выхватывали злобные черные лица людей, выкрикивавших лозунги или швырявших камни и кирпичи в горящие здания. Против них стояли стеной люди с белыми лицами, готовые сделать все необходимое для того, чтобы прекратить погром и спасти перепуганных соседей. Я сидел в кухоньке, не в силах оторвать глаз от двигавшегося на экране портрета Америки в таком виде, какого никогда не мог даже представить себе, слушал негромкие голоса репортеров, комментировавших события вне поля зрения камеры, и ломал себе голову над вопросом о том, что же могло довести целый городской район до такого накала ненависти.
— Только поганый ниггер может вот так взять и поджечь свой собственный дом, — пробормотал Джон. Он набил рот мясом и, с трудом пережевывая его, пялился на экран. — А потом они крушат магазины и мастерские, которые их кормят. Мозги у них не варят и никогда не варили. Дай им хоть малейшее послабление, так они сразу спалят дотла всю эту проклятую страну и обвинят в этом нас.
— Кого это — нас? — спросил я, отвернувшись от телевизора, чтобы взглянуть через стол на человека, назвавшегося моим приемным отцом. Джон Вебстер был очень крупным — двести сорок фунтов жирного мяса, облегавших шестифутовый костяк — мужчиной с тихим, но бесконечно угрюмым нравом. Его отношение к жизни было исключительно пессимистическим, а вину за скромность своего достатка он возлагал не на свои необразованность и нехватку инициативы, а исключительно на различные этнические группы, которые вторглись в страну и захватили рабочие места, ранее принадлежавшие только белым.