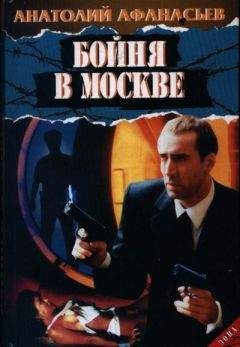Единственное существо, с кем Марина становилась сама собой, то есть просто беззаботным пятилетним ребенком, был Нурек. Их мгновенно вспыхнувшая дружба складывалась по схеме: милостивая госпожа — преданный, беззаветный, готовый по первому знаку совершить подвиг слуга. Счастье, которое переживал Нурек при ежедневной утренней встрече с девочкой, плохо поддается описанию. Когда она выбегала на крылечко, вопя: «Нуреша, Нуреша!» — пес поджимал уши и подползал к ней на брюхе, истерично вихляясь худеньким тельцем и оставляя за собой мокрый след. При этом так яростно скулил и подвывал, что казалось, сию минуту потеряет сознание. Экстаз любви — иначе это никак не назовешь.
— У тебя необыкновенная дочь, — сказал я Полине.
— Все дети одинаковые, Мишенька. Все очаровательные мотыльки. Трудно поверить, какое из них иногда вырастает дерьмо! А вот у тебя действительно славная девочка, умная, добрая. Только, пожалуй, немного экзальтированная.
Я знал, что она имеет в виду. С Катенькой случилось несчастье, хуже которого не придумаешь. Она влюбилась в Трубецкого.
30. СТАКАН ВИНА НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК (Продолжение)
Я заметил это в первый же вечер, хотя поначалу не придал этому особенного значения. Мы ужинали за большим столом на закрытой веранде — семь человек вместе с водителем Витей. Что касается самой еды, пир получился знатный. Прасковья Тарасовна водрузила в центре стола чугунок с горячим пловом, от которого шел такой дух, что кружилась голова. Вдобавок стол был уставлен блюдами с овощами (салат со сметаной, салат с постным малом и просто на деревянном подносе красные толстые помидоры, крохотные малосольные огурчики, пронзительно зеленые перья лука, белоснежные головки чеснока), тарелками с нарезанной ветчиной, колбасами, сырами разных сортов, распластанным на крупные ломти свежим хлебом и прочим, прочим, и посреди всего этого благолепия, точно сиротки, примостились бутылки, банки, графины — водка, вино, пиво, соки… То ли от усталости после ночных приключений, то ли под впечатлением звездной волшебной ночи, пронизанной мечтательным комариным звоном, все насыщались молча, основательно и с какой-то сумрачной отстраненностью. Изредка неунывающий Трубецкой, наполняя рюмки, ронял какую-нибудь грубоватую шутку, но хихикала в ответ одна Катенька, сидевшая справа от меня. И хотя, жадно пожирая все, что подкладывала на тарелку Полина, сидевшая слева, я клевал носом, все же обратил внимание, как неестественно звучит Катенькин смех. Будто ей не смешно, а щекотно.
Постепенно, под влиянием сытной еды и выпивки, кое-какой разговор завязался, но я почти не принимал в нем участия. Помню, что Трубецкой, сидящий напротив, начал рассказывать о том, как полинезийские каннибалы запекают в глине особо уважаемых пленников и какие при этом соблюдаются сложные ритуалы. К примеру, никому из дикарей не придет в голову сдобрить тушку белого человека специальной острой приправой, добываемой из корней экзотического растения «чап-чах», это считается дурным вкусом; и напротив, окорока молоденькой женщины из враждебного племени обязательно заливают расплавленным жиром анаконды. Трубецкой приводил потрясающие подробности с такой уверенностью и легкостью, будто сам бывал завсегдатаем на каннибальских праздниках. Но если в чем-то сомневался, за справкой обращался исключительно ко мне, и это действительно было забавно.
— Мишель, напомни, пожалуйста, — говорил, к примеру, — сколько дней вымачивают в протоке туловище пожилого воина?
С набитым ртом я бурчал что-то неразборчивое, и тут уж закатывалась не одна Катенька, но все равно ее смех звучал на октаву выше и пронзительнее, чем у других. «Бедная девочка, — думал я, — давно ей, в сущности, не доводилось веселиться, и отчасти, не по моей ли вине?»
Что сказать о Кате как о взрослой женщине? Мне трудно быть объективным, но все же… Когда мы расстались с ее матерью, она была еще пятнадцатилетним кукушонком, только-только вывалившимся из гнезда. Голову дам на отсечение, что до поступления в институт она была невинна. Потом как-то Ира сухо сообщила по телефону, что у Катеньки, кажется, завелся хахаль и хорошо бы мне, будучи отцом, принять какие-то меры. «Что значит — хахаль?» — поинтересовался я у разведенной жены. «То и значит, что дома не ночует». — «И какие же меры тут можно принять?» — «Ну хотя бы поговори с ней…» Через месяц, когда Катя навестила меня, я выполнил просьбу матери. Катя и не собиралась таиться. Да, живет с мужчиной, слава Богу, ей уже двадцать лет. Нет, замуж не собирается, потому что не уверена, что любит его. «Папа, — сказала она, — не принимай, пожалуйста, все так близко к сердцу, как мамочка. Это первый опыт, через это надо пройти». Я не спорил. К тому времени я уже многого не понимал в жизни и полагал, что если чего-то не понимаешь, то всегда лучше придержать эмоции при себе. «Хоть расскажи, кто он?» — «О, это несчастный человек, папочка!» Несчастный работал у них на кафедре, что-то преподавал, и судьба действительно дала ему крепкую подножку. У него украли машину, жена ушла к какому-то проходимцу из кооператива «Уют», а старший сын состоял под надзором милиции: торговал анашой в средней школе. Когда я узнал все эти подробности, то вынужден был признать, что первый любовный опыт дочери граничит с экстремальной ситуацией. «Не могу же я его бросить, когда он в таком состоянии, верно, папочка?» — «Это было бы неэтично», — согласился я.
Ей не пришлось его бросать, вскоре он сам переметнулся к ее подруге, тоже, видно, будь здоров какой утешительнице. На ту пору к его прежним несчастьям добавились следующие: брат-педик, слабоумная мать-алкоголичка и выговор на кафедре за то, что пытался зажулить институтский компьютер.
Катя на него не сердилась, жалела, но вспоминала впоследствии редко и без энтузиазма. Когда появился на горизонте Антон, ставший ее мужем, я даже обрадовался: конец опытам! — но радость была недолгой. Про этого мальчика, как я уже писал, можно было сказать только одно: законченный болван. Бабки, шмотки, бизнес. Мозг как у ящера, и при этом блистательная уверенность, что он пуп земли и мир принадлежит ему по праву рождения. В нормальном обществе такому, как Антон, пришлось бы до седых волос мыть чужие машины (для работы на конвейере он был слишком ленив), но век совпал с его телячьим интеллектом, и вот уже третий год бедолага разъезжал на собственном «мерседесе» и как-то ухитрился дать интервью молодежной газете, где совершенно всерьез рассуждал о том, почему таким людям, как он, «принадлежит будущее в этой стране». Впрочем, репортер, который брал интервью, выглядел еще большим идиотом.
Гордячка Катя под страхом смертной казни не созналась бы в том, что сделала неудачный выбор. «Как же я его брошу в таком состоянии, папочка?» — вот исчерпывающее объяснение многим ее несуразным поступкам…
Уже на второй день я окончательно убедился, что Катя влюблена и безнадежно, пошло страдает. Улучив момент, отвел ее в одну из пустых комнат, которая когда-то, видимо, служила библиотекой. Во все стены — книжные полки с пылящимися на них стопками брошюр и перевязанными бечевкой подшивками толстых журналов. Письменный стол с покосившейся эбонитовой настольной лампой. Стулья с прямыми спинками, на которых не уснешь, даже если придется читать «Капитал».
— Ну что, доченька, — спросил я напрямик, — совсем, кажется, сбрендила, да?
— Папа!..
— Что — папа? Я тебя прекрасно понимаю. Он действительно яркая личность, хотя и преступник, конечно. Но, Катюша, опомнись! Какая же ты ему пара? Так, ночку переспать!
Вместо того чтобы покаяться перед справедливо возмущенным отцом, Катя, естественно, перешла в наступление:
— А ты сам?.. И вообще, прошу тебя, перестань говорить со мной в таком тоне!
— В каком же прикажешь говорить? Радоваться твоему очередному безумству?
— Папа, я люблю его!
— Это как раз понятно, но…
— Я люблю его по-настоящему!
В ту же секунду я понял, что она не врет. Ее зрачки расширились, в них открылась бездна, куда не хотелось заглядывать.
— Но… — пробормотал я. — Но как же Антон? Да и…
— Антону я позвонила. Он в курсе.
— Ты сказала ему, где ты?
— Да. С разрешения Эдуарда. Папа! Папочка! Тебе плохо?
Вряд ли этим словом можно было определить то, что я чувствовал.
— Значит, вот как… Ты его любишь… А он тебя?
Вопрос был курьезный, но Катя ответила с абсолютной серьезностью. При этом выражение туповатого глубокомыслия на ее лице (от матери) приобрело масштаб солнечного затмения.
— Видишь ли, папа, он еще не совсем разобрался.
— Это он так сказал?
— Да что ты! Разве он скажет. Ты же его знаешь. Отделывается шутками. Но я чувствую, его очень тянет ко мне.
Слушать такое было выше моих сил.
— Ты уже спишь с ним? В шутку, я имею в виду.