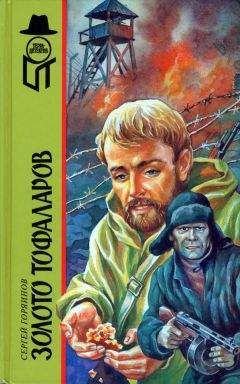Так вот, Волков персонально со мной работал. Пару недель спустя по окончании следствия зашел я к нему по собственной инициативе. Договор-то с меня никто не снимал. Прикинулся я этаким шлангом, спрашиваю, что мне делать, если из Ярославля приедут или позвонят? Он пальчиками по столу побарабанил, поглядел на меня ничего не выражающими цинковыми глазами:
— Они уже не позвонят. Никому.
Вот так-то! Подальше от этих служб держаться надо, как можно дальше. Урок этот я твердо усвоил. Но — страна специфическая. Рано или поздно, а все равно столкнешься.
Иду я к Волкову на прием на директорский этаж и лихорадочно думаю, зачем же я ему понадобился? С Ярославлем дело давно уже закончено… И вдруг как удар — карта, черт! Не иначе, кто-то из топографов заложил. Скопировал секретную карту, вынес с предприятия. Ну все, последствия печальны.
Секретарь у Волкова — молодой парень в строгом сером костюме, спортивного вида громила.
— Проходите.
Проходим. В кабинете сам Волков под портретом Феликса и двое помоложе, их не знаю, но по виду из того же ведомства.
— Присаживайтесь, Сергей Александрович. Знакомьтесь, это товарищ с Петровки.
Волков нас представил. С Петровки? Вот те на! Слава Богу, карта ни при чем.
— Скажите, Сергей Александрович, вам знакомы эти телефоны? — Товарищ капитан Уколкин протянул мне листок бумаги.
Знакомы мне номера, знакомы. Сверху мой служебный, внизу мой же домашний.
— Кому вы их давали в течение последних трех недель?
Ну мало ли кому? Десятка два человек наберется, сразу всех не вспомнишь.
— Ладно, уточним. Вот такая запись вам знакома?
Пачка сигарет «Столичные». На крышке оба телефона зеленым шариком записаны. Моего имени нет.
— Нет, не припомню.
— Ну, хорошо. А вот этого человека знаете? Две фотографии на столе. Девять на двенадцать. Портрет. Анфас и профиль. Знаю, конечно. Выражение лица только странное. Глаза широко раскрыты, слишком как-то широко. Удивленное такое выражение.
— Это Граф. То есть Александр Шереметьев, отчества не знаю.
— Граф — кличка? Из блатных? Имел судимости?
— Да нет. Впрочем, насчет судимостей не знаю, он не рассказывал. Работали вместе на Севере несколько лет назад. Я думаю, в кадрах Ботуобинской геофизической экспедиции в Мирном есть его анкетные данные. А что, собственно, случилось?
— Неприятная вещь случилась с вашим знакомым, неприятная. На перегоне Домодедово-Москва-Павелецкая, рядом с железнодорожным полотном, вчера был обнаружен труп мужчины. — Уколкин тронул указательным пальцем фотографию анфас. — При осмотре ничего не обнаружили — ни документов, ни денег. Ничего, что помогло бы установить личность. Кроме вот этой пачки сигарет с телефонами. Первый номер привел нас сюда.
— Скажите, Сергей Александрович, вы разговаривали с покойным о характере вашей работы? — Это уже Волков вступил.
— Нет, ни в какой форме!
Содержание невзрачного листочка с собственной подписью я помнил твердо. Волков удовлетворенно кивнул.
— Сергей Александрович, мы просим вас помочь следствию. Нужно провести опознание. Товарищ полковник подпишет вам увольнительную. Наша машина у главного подъезда. Собирайтесь, мы вас у выхода подождем.
— Сергей Александрович всегда ответственно относится к исполнению гражданского долга. — Волков внимательно посмотрел на меня. Встал. Все поднялись вслед за ним.
За высокопарной фразой вполне угадывалось: «Помнишь, что подписывал?» Как же, как же…
За руль белой, ничем внешне не примечательной «Волги» сел молчаливый напарник Уколкина. Машину он вел очень спокойно, как-то по-пенсионерски, но до 54-й больницы мы доехали на удивление быстро. Только на пустынной набережной Архиерейского пруда он слегка притопил, и меня моментально вдавило в спинку заднего сиденья.
— Ну и движок у вас!
Водитель посмотрел на меня в зеркальце, улыбнулся:
— Это ГАЗ-2434. У-образная восьмерка, двести лошадей.
Любит парень свою машину. Тема есть.
Пока Уколкин ходил к больничному начальству, мы хорошо с его коллегой поговорили, почти на «ты» перешли. Версия у них была пока одна. Убийство с целью ограбления. Все забрали, даже часов не было на руке. И моя информация в эту версию укладывалась хорошо. На Севере человек работал, деньги большие получал, подпил в аэрофлотовском буфете со случайными знакомыми, болтовня и сгубила. И то, похвастаться Граф любил. Пассажиров его рейса надо проверять. Впрочем, сам рейс еще будут вычислять.
Откуда он мог лететь? А кто его знает? Мирный, Иркутск, Новосибирск, да хоть Анадырь. Ищите, ребята, ищите. Про Якутск я говорить им не стал. Своя версия уже начинала складываться.
Уколкин пришел с прозекторами, повели нас в морг. Лежит Граф на каталке, закрыт белой простынкой до подбородка. Глаза закрыты, знакомое лицо. Белое, как сама эта простынка. Составили протокол опознания, подписал я его.
— Как его?
— Ножом. Сзади, под левую лопатку. — Уколкин просматривал документы, собираясь укладывать их в кейс.
— Не ножом, нет-с, молодые люди, не ножом! — От невысокого старичка-патологоанатома исходил легкий приятный запах высококачественного спирта.
— Да ведь явно же не пуля? — Уколкин посмотрел на врача с недоумением.
— Холодное оружие, да-с, но не нож. Не хочу предвосхищать результаты экспертизы, но скорее всего это кортик!
— Кортик?
— Кортик, стилет. Четырехгранный клинок, с равными гранями. И не штык — грани явно остро заточены. Сантиметров тридцать длиной. Удар очень точный, я бы сказал, высокопрофессиональный удар.
— Вы судмедэкспертом работали?
— Нет, никогда. А вот часовых снимать приходилось. Полковая разведка, от Киева до Будапешта. Смею вас заверить, молодые люди, такой удар случайно не нанесешь, обучения это дело требует. Направление клинка, сила, скорость — все точно рассчитано. Смысл в чем? Моментальный шок! Ни рукой дернуть, ни крикнуть. Подумать о чем-либо и то не успеешь. И крови снаружи почти нет — внутреннее кровоизлияние. Поэтому и кортик выбран. Я вам говорю: и оружие, и рука профессионала.
— Может быть. — Уколкин пожал плечами. — Экспертиза покажет.
— Увидите, я прав!
— Может быть, может быть. Ну, всем спасибо. До свидания. Сергей Александрович, вас подвезти?
— До Преображенки подбросите?
— Поехали.
Быстро мы обернулись, салон «Волги» еще тепло сохранил.
— Четвертое убийство за две недели на нас повесили! — Уколкин устало откинулся на сиденье.
— Много пахать приходится?
— А то? Сегодня часов до десяти в управлении просидим. С рейсами одними возни сколько будет. Вообще говоря, надежды мало. По трем делам хоть какая-то подвижка есть, а это, похоже, «висяк». Может быть, у вас какие-нибудь соображения есть?
— Да нет, ничего в голову не приходит.
— Вот, вот. Я тоже думаю — случайное ограбление. Не повезло вашему другу.
— Да уж, не повезло.
— Я смотрю, вы не очень расстроены? — внезапно спросил Уколкин с какой-то странной интонацией.
— В жилетку вам рыдать, что ли? — только и нашелся я ответить.
— Ну ладно, извините. Вот мой служебный телефон, если что в голову придет — звоните. Если вы нам понадобитесь, вызовем.
— Всего хорошего.
«Волга» аккуратно отвалила от тротуара, разбрызгивая бурую слякоть, влилась в плотный поток. Красиво этот парень ездит, смотреть приятно. И машина хорошая — будет ли у меня когда-нибудь «Волга»? Странный, однако, вопрос мне Уколкин задал! Огорчен — не огорчен, что ему до моих эмоций? Его дело факты, улики собирать. Или, может быть, другая версия все же есть? И не такие простые они парни, как кажутся на первый взгляд? А, ладно, черт с ними, ничего лишнего я вроде бы не сболтнул, больше слушал.
Экспертиза покажет, конечно, но в то, что Яков Наумович, толстенький, красненький, пьяненький, говорил, я, пожалуй, поверил. Неужели и он сам — вот так, «моментальный шок»? На улице встретишь — никогда не поверишь. Во-первых, явный Наумович, а во-вторых, ну никак на рейнджера не похож. Рукоятку кинжала в пухленьком кулачке представить трудно. Патологоанатом — это что, призвание? Да, любой человек — дебри бесконечные…
Смерть Графа странное впечатление на меня произвела. Пожалуй, Уколкин в чем-то был прав. Не было во мне никаких положенных по такому случаю чувств. Ни горя, ни гнева, даже сожаления особого не было. Честно говоря, меня самого такая реакция удивила, даже неприятно немного стало. Может, и впрямь не хватает во мне чего-то, что должно быть у всякого нормального человека? Над страницами Достоевского слезу пускать доводилось, а вот над трупом человека, когда-то спасшего мне жизнь, ничего такого не ощущаю. Почему так? Нехорошо, нехорошо…
Но недолго я этим психоанализом занимался. За шесть лет, на факультете психологии проведенных, интроспекции[7] много времени посвящено было; в больших дозах вредное это занятие — способность к действию теряешь. А сейчас такая способность пригодится. Очень.