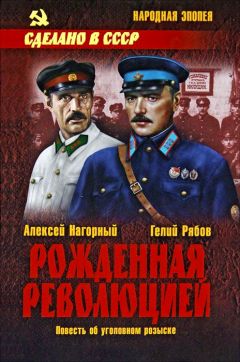Ознакомительная версия.
Алексей Нагорный, Гелий Рябов
Я — из контрразведки
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОСОБАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Только теперь начинаешь понимать, что это были за удивительные легендарные годы 18—19—20–ый. Им не повториться дважды, дважды никто не родится, в том числе и пролетарское государство.
Дмитрий Фурманов
Порыв ветра донес унылый бой курантов: ровно четыре удара. Струве стряхнул зонт: над Парижем висели низкие серо–коричневые облака и лил унылый, совсем русский дождь. Вытащил хронометр на массивной золотой цепочке — подарок воронежских земцев. Кажется, это было в 904–м? Да, верно. Тогда он еще ходил в марксистах либерального толка и был очень популярен у этих брюхатеньких сытых мужчин, мечтающих о думской карьере и будуаре Кшесинской. Сластолюбцы, черт бы их всех побрал. Проговорили Россию, проклятые болтуны, и вот, кажется, финиш…
Нажал репетир. Часы мелодично вызвонили десять раз, и Струве нервно и зло сунул их в карман. Время обеда, а он торчит здесь, па кладбище Пер–Лашез. Всё разладилось, всё! И наладится ли теперь? Ох, уж нет… Слава богу, он не на трибуне и врать незачем.
Вокруг чернели мраморные кресты надгробий. С них стекала вода. Аллею замыкал пилон в духе древнеегипетских, с барельефом: вереница людей медленно уходила в ворота небытия. «Ничего, — подумал Струве, — и это пройдет. Мудрый Соломон тысячу раз прав: в радости мы всегда ждем печали, в горе — томимся ожиданием избавления. Таков вечный круговорот жизни. Его никто и никогда не мог изменить: ни халдеи, ни Маркс, не изменит и господин Ульянов, ибо все суета»… Он вдруг почувствовал, что за спиной кто–то стоит, и оглянулся. Это был человек лет сорока в поношенном пальто, со шляпой в руке. По длинному носу стекала дождевая вода, смешно отделяясь капельками от изогнутого кончика: кап, кап, кап. Карие, глубоко посаженные глаза неторопливо ощупывали, словно фотографировали. «Явился, — подумал Струве. — А куда ему деваться? Денег нет. Вряд ли ел сегодня. Озлоблен и недоверчив, — он присмотрелся к незнакомцу. — Интеллект минимальный… Впрочем, в письме Врангеля много красивых слов. А нужен ему прозаический костолом. И если так, то этот упырь вполне сойдет».
— Господин Крупенский, — приподнял Струве шляпу, — у вас должно быть мое письмо.
— Вот оно. Чему, собственно, обязан? — Тот, кого Струве назвал Крупенским, протянул мятый конверт.
— Меня зовут Петр Бернгардович, — слегка наклонил голову Струве. — Я бы хотел иметь с вами разговор доверительный и вместе с тем вполне официальный. — И, заметив, как собеседник едва заметно пожал плечами, продолжал: — Вы сын кишиневского предводителя дворянства?
— Младший, если вам угодно.
— Служили в департаменте полиции?
— Прежде я окончил Петербургскую академию художеств, — мрачно заметил Крупенский.
— О–о–о, — насмешливо прищурился Струве. — Как вы находите этот памятник? — он повел головой в сторону пилона.
— Бартоломе — художник гениальной минуты. Эта минута перед вами, — Крупенский снова пожал плечами. Видимо, вопрос показался ему тривиальным.
— О–о–о… — уже другим тоном протянул Струве и с нескрываемым любопытством посмотрел на собеседника. — Вы знаете мое официальное положение здесь, в Париже?
— Не знал бы, не болтал бы с вами, — резко сказал Крупенский. — Говорите, наконец, в чем дело?
— Та–ак, — помедлил Струве, слегка смущенней такой независимостью и таким напором. — Вас рекомендовал Павел Григорьевич Курлов… Вы понимаете?
— Благодарите генерала Курлова. Что ему угодно?
— Курлов — это здесь, в Париже, — невозмутимо продолжал Струве. — Там, у Врангеля, вас хорошо знает по отзывам в послужном списке генерал Климович. Вот письмо его превосходительства генерал–лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля… –Струве подтянулся и вскинул голову. — Правитель Юга России и главнокомандующий русской армией поручает мне официально просить вас, Владимир Александрович, отбыть в Крым, в Севастополь, и взять на себя миссию помощника Климовича.
— Генерал не справляется… — насмешливо хмыкнул Крупенский, — Ай–я–яй, какой пассаж…
— Владимир Александрович, — Струве подошел к памятнику, — вы видите: все обречены. Еще мгновение, и последние скроются в этих вратах, откуда нет возврата. Но взгляните: среди всеобщего уныния, скорби и отчаяния есть все же человек, который думает не только о себе. — Струве театрально протянул руку к барельефу. Там, на краю пилона, у лестницы, могучий мужчина бережно поддерживал изнемогающую, готовую упасть женщину.
— Кто же этот герой? — Крупенский смотрел Струве прямо в глаза, и было непонятно, насмехается он или спрашивает вполне серьезно.
— Этот герой — Врангель, — сказал Струве. — Это вы, если угодно, это мы все, несчастные русские люди.
— Скажите, — вдруг оживился Крупенский, — кто придумал этот текст: «Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, чтобы с тем большей энергией продолжать борьбу с капитализмом и буржуазией до полной победы социализма»? Это, кажется, на Первом съезде РСДРП сказано?
Струве молчал. Крупенский взял его за руку и подвел к центру памятника:
— Взгляните сюда… Этот старик уже мертв, но еще цепляется за край гробового входа. Кто он? Молчите? Тогда слушайте. Двадцать два года назад вы и такие, как вы, следуя моде и непомерному честолюбию, написали только что процитированные мною слова. Вы и такие, как вы, сделали все, чтобы Россия исчезла с лица земли, а ее вождь, ее государь мученически умер в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, и вот теперь, когда все кончено, вы предлагаете мне работать с генералом Климовичем… Нет, милостивый государь… Измену надо было давить в зародыше. А теперь добровольческие армии отдали свои жизни за мираж…
Струве раскрыл зонтик:
—Я вас так понять должен, что вы отказываете его превосходительству… Хорошо. Встретимся на площади Согласия через два часа. Вы все же подумайте…
Крупенский натянул «котелок» на уши и поднял воротник пальто:
— Я ничего не обещаю. — Он повернулся к Струве спиной и четким военным шагом двинулся к воротам кладбища.
Струве долго смотрел ему вслед, пока он не скрылся за поворотом кладбищенской дорожки. «Что ж, — думал Струве, — как ни крути, а он прав. Белое дело обречено, оно доживает последние дни. Пусть Запад признал правительство Врангеля, пусть в Крым еще поступают последние транспорты с оружием, патронами и снарядами, но армии красных у ворот Крыма, у Перекопа. Англичане отвернулись, американцам нет больше никакой выгоды, а без выгоды они и пальцем не пошевелят. На то они и янки–дудль. И черт бы их всех побрал, жадных, расчетливых иудушек, готовых выдернуть из–под головы умирающей матери подушку, дабы тут же ее выгодно продать. Орава смрадных подонков в смокингах и цилиндрах, с дежурными улыбками, с дежурными словами. Прав Крупенский: продали, промотали Россию, и теперь тысячелетний, истомившийся жаждой крови и разгула хам, его величество пролетарий «окажет» себя во всей красе, пустит юшку либеральствующим идиотам, сюсюкающим интеллигентам в пенсне, пропади они все пропадом…» Оп смачно плюнул и растер плевок ногой и тут же удивленно подумал про себя, что безнадежно утрачивает и лоск, и манеры и помешать этому бессилен даже Париж.
Он вышел из ворот кладбища и взмахнул зонтиком, чтобы подозвать экипаж. Зацокали подковы, с козел свесился изящный кучер: «Мсье?»
— Проваливай, — вдруг хмуро, по–русски сказал Струве. Он подумал, что денег осталось в обрез, а еще предстоит дать прием по случаю дня рождения главы русской миссии в Париже Маклакова и пригласить этот прием весь дипломатический корпус. И хотя конец от Пер–Лашез до резиденции русского представительства всего ничего — один франк, — тем не менее копейка рубль бережет, как любили повторять умные люди в России. Может быть, еще и один франк что-то решит, что–то изменит… Он рассмеялся: какая глупость. Встретил изумленный взгляд кучера, пожал плечами: — Я либерал, братец, и предпочитаю муниципальный транспорт. Ты уж извини меня, старика, — и легко взлетел на империал — второй этаж конки, благо вагон затормозил перед самым носом. Опустился на жесткое сиденье, поморщился — костистым стал зад, стариковским… Эх, с ярмарки едем, с ярмарки… И чего уж там — к вечному своему дому подъезжаем… Тренькнул звонок, мысли приняли другое направление. Согласится или не согласится Крупенский? В сущности, ему, Струве, было все равно. После разговора с этим странным человеком, не то знатоком искусства, не то полицейским шпиком, оп как–то вдруг ощутил, что жизнь из него, Петра Бернгардовича Струве, вытекает уже не стопочками, не стаканами, а целыми самоварами и теперь эта жизнь так, чуть плещется на самом донышке. И все–таки — согласится или нет… Честолюбив, это видно. Умен, это понятно.
Ознакомительная версия.


![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](https://cdn.my-library.info/books/193625/193625.jpg)