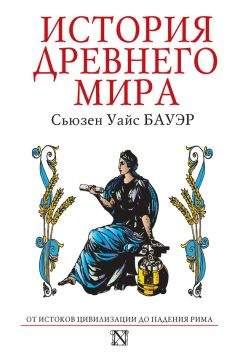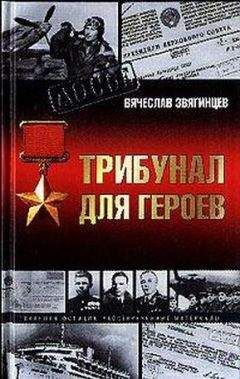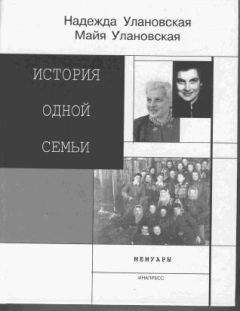В начале 1957 г. в московских газетах появились сообщения о высылке из пределов Советского Союза нескольких иностранных дипломатов, занимавшихся деятельностью, несовместимой с их официальным положением.
Почти одновременно с этими сообщениями были опубликованы показания нескольких шпионов и диверсантов, засланных в Советский Союз одной иностранной разведкой.
Они подробно изложили факты и обстоятельства своего падения и раскаяния. Одни попали в плен, другие были угнаны оккупантами, третьи, боясь наказания за какое-либо преступление, бежали сами.
Жизнь на Западе мало походила на ту красивую жизнь, какая изображалась во многих заграничных фильмах. Бездомное и полуголодное существование, постоянное попрание человеческого достоинства вынуждали так называемых “перемещенных лиц” соглашаться на любые предложения. Некоторые из них, дойдя до последней степени морального падения, стали платными агентами иностранной разведки…
История одного из таких “возвращенцев” показалась мне любопытной и даже поучительной, и я изложил ее в виде повести, изменив только собственные имена.
Как он уцелел, Анохин не понимал. Смерть была неизбежна. Еще секунда, мгновение — и от него осталось бы одно воспоминание… Нет, решительно он рожден под счастливой звездой!
Уже возвращаясь домой, в поезде метро, сидя на мягком диване покачивающегося вагона, он еще раз мысленно представил себе все происшедшее.
После работы Анохин прямо с завода отправился в институт, где он учился на заочном отделении, — два раза в неделю все заочники обязаны были являться на консультацию к своим педагогам.
Завод находился на окраине Москвы, институт — в центре города. Анохин доехал очень быстро. Преподаватель, в группе которого он занимался, был свободен. Анохин сдал ему тетрадь с решенными задачами, преподаватель ее просмотрел; они поговорили, и Анохин освободился меньше чем через час.
Он вышел на улицу и переулком прошел на Кузнецкий мост.
Так называемые часы “пик”, когда поток москвичей, расходящихся с работы по домам, заполняет все улицы и магазины, троллейбусы, автобусы и метро, близились к концу; прохожих было еще очень много, но уже не было той толчеи, из которой трудно бывает подчас выбраться.
Дело происходило в январе, но на дворе стояла оттепель. Зима была сиротская, морозные дни за эту зиму можно было пересчитать по пальцам. Временами падал снег, временами подмораживало, но не успевали дворники выйти со своими скребками на тротуары, как вновь начинало таять и повсюду образовывалась та отвратительная слякоть, которая портит людям и настроение, и здоровье.
Анохину нравился Кузнецкий мост. Эта улица очень походила на шумные и нарядные улицы больших европейских городов, которые ему довелось видеть. Те же великолепные магазины, те же сияющие электричеством вывески, заманчивые витрины, светящиеся зеленые и красные надписи, все очень весело, оживленно, нарядно, но было в этой улице и что-то свое, непередаваемо русское, может быть, самым приятным было сознание, что к любому прохожему можно обратиться и услышать от него ответ на своем родном языке…
Анохин постоял перед витриной большого универсального магазина, где были выставлены пестрые женские кофточки. Голубые, кремовые, желтые, зеленоватые… Из всех он облюбовал одну — сиреневую. Он решил, что в ближайшую получку приедет сюда и купит эту кофточку своей Шуре.
Потом он зашел в магазин рядом, где продавали фрукты и консервы. Здесь он купил мандаринов — и для Шуры, и для Маши. Патронажная сестра, которая приходила к ним на дом, очень советовала давать Маше фруктовые соки.
Потом он медленно поднялся по Кузнецкому мосту, повернул на улицу Дзержинского, собираясь пересечь площадь и пройти к метро.
И вот тут-то это и произошло!
Анохин стоял у самой кромки тротуара и ждал, когда перед ним вспыхнет зеленый свет светофора.
Вереницы автомобилей нескончаемым потоком стремились вниз, к площади Свердлова. “Победы”, “ЗИМы”, “ЗИЛы” неслись по скользкой мостовой. Милиционер, регулировавший в стеклянной будке на углу уличное движение, медлил остановить этот поток; казалось, бегу машин не будет конца.
Анохин переступил с ноги на ногу и вдруг почувствовал сильный толчок в спину и сразу же очутился на мостовой. Прямо на него неслась большая блестящая черная машина. Падая, Анохин инстинктивно взмахнул руками. Кулек с мандаринами вылетел из его рук, и оранжевые мячики раскатились по мостовой. Анохин неизбежно должен был очутиться под колесами машины. Шофер не мог успеть затормозить.
И тут произошло нечто непостижимое. Вопреки всякой вероятности Анохин не упал, а… очутился в объятиях милиционера-орудовца. Откуда тот вынырнул, как очутился между машинами, было непонятно. Шофер не в силах был затормозить свою машину; Анохин, падающий под ее колеса, не мог спастись… Но, должно быть, условный рефлекс на милиционера, выработавшийся у московских шоферов длительными годами практики, так силен, что машина заскрипела всеми своими тормозами, колеса с шипением забуксовали на одном месте и тяжелый капот машины лишь толкнул, легко подтолкнул Анохина и его спасителя вперед и замер, не подмяв их под себя.
Все последующее происходило, как обычно.
Шофер приоткрыл дверцу, но милиционер только махнул ему рукой: за шофером не было никакой вины. Не будь здесь милиционера, шофер, конечно, не удержался бы и наградил виновника происшествия несколькими теплыми словами, но на этот раз он только выразительно хлопнул дверцей и поехал дальше.
Милиционер вывел Анохина обратно на тротуар и тут же — это тоже был, вероятно, условный рефлекс, рефлекс вежливости — козырнул прохожему, только что спасенному им от смерти или, в лучшем случае, от увечья.
— Эх, молодой человек, молодой человек! — укоризненно произнес милиционер, хотя сам он был моложе Анохина. — Куда вас понесло?
— Да никуда, — возразил Анохин, приходя в себя. — Меня кто-то толкнул!..
— Не надо, гражданин, не надо, все нарушители говорят, что их кто-то толкнул, — назидательно остановил его милиционер. — Придется вас оштрафовать!
Анохин оглянулся вокруг. Десятки прохожих шли мимо, и вверх, и вниз. Кое-кто равнодушно взглядывал на человека, оправдывающегося в чем-то перед милиционером, и проходил дальше. Никому не было до него дела. Анохин был уверен в том, что его кто-то толкнул, он очень ясно почувствовал сильный удар в спину. Но кто это мог быть? Хулиган? Какой-нибудь рассеянный человек, случайно на него налетевший? Слепой?.. Поблизости не было никого, и оправдываться было бесполезно: милиционер все равно ему не поверит.
— Я не возражаю, — согласился Анохин.
Только несколько придя в себя, он начал отдавать себе отчет, какой опасности ему удалось избежать… Но, должно быть, у него был слишком растерянный вид, потому что милиционер внезапно сменил гнев на милость.
— Ладно, — сжалился он. — Идите и больше не перебегайте улицы как попало…
Анохину было настолько не по себе, что он даже забыл поблагодарить своего спасителя.
Он пересек площадь Дзержинского, озираясь на этот раз во все стороны, и только в поезде метро вполне осознал, что незнакомый человек в милицейской форме рисковал ради него собственной жизнью и, по существу, спас его от смерти.
Ему так захотелось поскорее к жене и дочери, что он никуда уже не стал заходить и, против обыкновения, пришел домой с пустыми руками.
В новую квартиру Анохины переехали недавно. Сперва у них была крохотная комната в старом деревянном доме, но после рождения дочери заводоуправление дало им комнату в одном из своих новых домов. Квартира была немножко темновата — она находилась на первом этаже, но это была вполне благоустроенная квартира, с ванной, с газом и всякими прочими удобствами. Квартира была трехкомнатная; кроме Анохиных, в ней жили еще две семьи — механик Евгений Евгеньевич Деркач с женой и бухгалтер Нина Ивановна Сомова с дочерью Наташей. Деркач и Сомова работали на том же заводе, где и Анохин.
Деркач держался как-то обособленно от всех, а с Сомовыми Анохины жили душа в душу, особенно с Наташей, которая дружила и с Шурой, и с Машенькой. Сама Нина Ивановна Сомова была строгой сорокалетней женщиной; все внимание она отдавала лишь работе и дочери; мужа она потеряла во время войны и вторично замуж не пошла. Наташе шел восемнадцатый год, она кончала школу, была общительна, смешлива и совсем не походила на мать.
Анохин подошел к дому. Дом стоял на одной из тех новых улиц, которые стали возникать в Москве лишь в самое последнее время, — пустырь, превращенный в квартал больших, благоустроенных домов.
На улице было сравнительно пустынно — не то что в центре, — лишь изредка в отдалении мелькали прохожие. Везде в окнах горел свет. Из комнаты Деркача доносилось гудение радиоприемника. Окно комнаты Анохиных было занавешено.