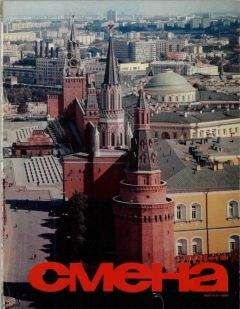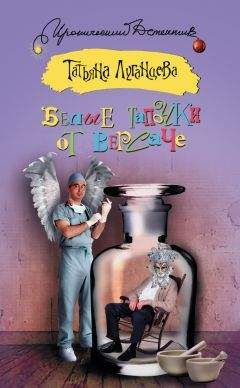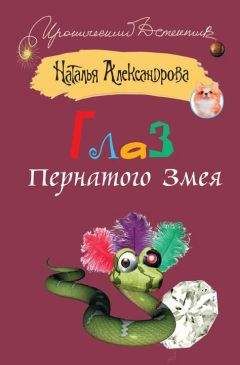Ближе к окраинам в теплые предвечерние часы можно было на скамейках у домов увидеть старых рыбацких жен, вдов, по-деревенски повязанных платками. Широкие в кости, строгие, молчаливые, они сидели рядом по две-три, положив на колени узловатые, натруженные руки. Жаль, не было времени остановиться, поговорить, как не было времени пойти посидеть у моря на огромном розово-сером валуне, наполовину вросшем в песок. По бытовавшей давней легенде, валун этот когда-то с грохотом обрушил на голову жадного и злого скупщика рыбы сам латышский бог Перконис. Много лет утекло, от скупщика рыбы следов на земле не осталось, а разгневанный Перконис все гремит над побережьем.
В голове майора еще не улеглись впечатления вчерашнего дня. Документы, о характере и значении которых специалисты должны были срочно сообщить полковнику Сторожеву. Странная Бронникова, которая определенно не поняла, в какое дело ввязалась; циничный молодой пройдоха Серфик, которого, по убеждению майора, можно было арестовать, но полковник не соглашался...
По пути домой, хотя это было совсем не по пути, Александр Степанович заглянул к себе на службу. Дежурный сказал:
– Только что звонил полковник Сторожев, он ждет вас.
– На этот раз мы поменяемся местами, – пошутил полковник, когда Савин, войдя в кабинет, доложил о своем прибытии. – Не вы, а я буду информировать о новостях.
Личность Виталия Иннокентьевича не укладывалась в стандартные представления о начальстве, и поэтому майор не удивился.
– Хотите кофе? – предложил полковник.
– Не откажусь.
– Тогда помогайте мне. Все необходимое в шкафу, нижний правый ящик. Действуйте, а я пока открою окна. За ночь стало душно, как в финской бане. – Полковник терпеть не мог финских бань в том виде, в каком они нынче распространились.
Небольшой электрический чайник забурлил через считанные минуты. В каждый стакан полковник положил по две чайные ложки растворимого кофе.
– Сахар – по вкусу, – сказал он.
Обжигаясь, оба с острым ощущением удовольствия сделали несколько глотков.
– Ну, так вот, Александр Степанович, – сказал полковник, отодвигая пустой стакан. – Из леса выполз...
– Кто??
– Розенберг, или, как он пишется в послевоенных документах, Рожкалнс. Он сам, подчеркиваю, сам, добровольно покинул сторожку своего приятеля, лесника из Калининградской области, у которого отсиживался, приехал в Янтарное и явился в милицию: арестуйте меня, я бывший агент гестапо. Только, говорит, перед тем, как арестовать, выслушайте! Милиция связалась с лейтенантом Лактионовым, который, собственно, из-за Розенберга продолжал оставаться в Янтарном. Лактионов с Розенбергом внизу, у дежурного.
Дело ведете вы, Александр Степанович, поэтому я не трогал Розенберга до вашего приезда. Чтобы сохранилась, как говорится, острота первой встречи.
Савин чувствовал, что это не все и что Виталий Иннокентьевич удивит его еще. А тот после паузы продолжил:
– Нам с вами именно сейчас предстоит решить, будет ли Розенберг арестован вообще. У меня на сей счет имеются сомнения.
– Вот как! – совсем не по-служебному воскликнул майор.
Полковник нажал одну из кнопок блока связи.
– Дежурный? Скажите лейтенанту Лактионову, пусть поднимется ко мне вместе с задержанным.
Замечательно, что лесники, старясь, почти никогда не сутулятся, не горбятся, до конца дней они глядят прямо перед собой, и спины их прямы, как стволы величавых сосен. Розенберг же стоял согнувшись, как подбитое болезнью старое дерево, в котором еле пульсировала жизнь, и руки его были похожи на сучья, покрытые темной корой.
Странное впечатление производили его глаза. В них была пустота. И двигался Розенберг странно, как бы и четко, и вместе с тем это была привычная четкость механизма – души не было.
Виталий Иннокентьевич Сторожев внимательно наблюдал за лесником с первого момента, как тот вошел. Фуражку лесник снял у двери. Усаживался на стул не сразу, а сперва потрогал: крепок ли? Обвел кабинет долгим взглядом, внимательно посмотрел на полковника.
По правилам полагалось спросить фамилию, имя, отчество и так далее, но полковник неожиданно сказал:
– Покажите-ка вашу фуражку.
Лесник, не удивляясь, снял фуражку с колена, привстав, протянул полковнику. Это была когда-то модная в поселках Прибалтики «шестиклинка», нечто промежуточное между картузом и шахтерской фуражкой, сшитая из темно-синего сукна.
– Вы эту фуражку забыли у Бируты Маркевиц? Помните? В тот раз, когда хозяйки не было дома?
– Помню, – с легким вздохом ответил Розенберг. – Нет, это другая, та была старая. Так и пропала.
– А почему вы не женились? – снова задал неожиданный вопрос полковник.
Лесник усмехнулся, но не удивился. Видно, вопросы полковника при их необычности были точны. Попадали по главному, о чем думалось в одиночестве.
– До войны не собрался. А после войны – где там! – Он опять усмехнулся, но уже по-другому.
Неожиданно для лесного отшельника Розенберг вполне сносно говорил по-русски.
– А теперь главный вопрос. Вы пришли в милицию и сказали: «Я бывший агент гестапо. Арестуйте меня, но сперва выслушайте...» Что вы хотите сказать? Говорите, мы вас слушаем. Только давайте честно.
– Честно, – повторил Розенберг. – Когда я при немцах был лесник, тогда боялся партизан, но вред им не делал.
Полковник, услышав такое начало, кивнул, как бы поощряя говорившего. Лейтенант Лактионов, не отрываясь, глядел на Виталия Иннокентьевича, как студент в аудитории глядит на любимого профессора, – и внешность, и манера держаться, и форма обращения, и неожиданные вопросы – все было образцом, эталоном, откровением.
– Немцев я боялся тоже, – продолжал Розенберг. – Поэтому делал все, что они требовали: Zeige Weg – покажи дорогу – показывал. Возил на охоту. Вы знаете, они пробыли у нас не один месяц, а три с лишним года. Моя мать немка, они хотели записать меня в «фольксдойч». Но я сам себе сказал: не соглашусь, а то партизаны убьют. Схитрил, стал носить фамилию матери, немцы на том успокоились.
Я из войны чистым бы вышел, но эсэсовцы собрали в нашем городке мальчишек, повезли в лес расстреливать. Взяли меня – показывать дорогу, где нет партизан. Я не поверил, что расстреливать будут по-настоящему, думал, попугают лишь, чтоб боялись, разбегутся мальчишки – и все.
А они расстреляли.
При мне. Я все видел.
У меня ноги подгибались от страха, язык совсем отнимался. Вот-вот повернут автомат и в меня – тр-р-рах! – убрать свидетеля.
А они сделали еще хуже. Старший подошел ко мне и сказал: «Ну вот, теперь ты наш! Теперь мы тебе доверяем совсем. За службу фюреру будешь получать «железный крест».
И в тот самый вечер прислали в мой дом на жительство шесть эсэсовцев. Тут как раз была бомбежка и партизанский налет. Один эсэсман говорит мне: «Помоги закопать в землю ящик, там ценные бумаги и твое счастье тоже!» Дом загорелся, сгорел совсем. Я ушел жить в лес.
А когда после войны на месте пожара начала строиться одна женщина, одинокая, с сыном, я пришел. Познакомился. Это была Бирута. Я с ней любовь крутил. Через год хотел уходить. Она сказала: «Если будешь уходить, заявлю, что ты агент гестапо. Вот в огороде выкопала». И показала пачку бумаг с черным орлом. На меня опять страх напал. Спрашиваю: «Там и про меня написано?» Она говорит: «Написано!»
Я хотел бумаги взять без нее. Не нашел. Тогда стал прятаться. Официально перевел свою фамилию на латышский. Это было легко, документы дали сразу. Я сказал, что немцы меня называли Розенбергом насильно. И стал Рожкалнс. Лесник Рожкалнс. Работал на участке, где подальше. А когда услышал, что вдова умерла, сам пошел в милицию, потому что бумаги найдут – мне будет сто раз хуже. Вот и все! Немцам я служил, но людей не убивал. Что мне положено, готов получить.
Высказавшись, лесник опустил голову, уткнулся взглядом в пол.
– Что ж, – сказал полковник Сторожев, – показания ваши правдивы. Они подтверждаются материалами и документами, которые имеются в нашем распоряжении. Но нам известно, что недавно группа молодых людей искала лесника Розенберга, а не Рожкалнса. Что вы можете сказать на это?
– Я там, в лесу, когда прятался, долго думал, – начал лесник, как бы размышляя сам с собой. – Про то, что я Розенберг, знал только один немец, и он меня заставил закапывать ящик. Он расстрелом командовал, и он приехал ко мне на жительство вместе с другими, когда был партизанский налет. Партизаны перестреляли всех. Ушли в лес. Стало тихо. Только дом трещал, горел. Все они лежали во дворе, шесть. Приехали немцы с мотоциклами. Я прятался. Немцы постреляли немного в лес. Далеко не пошли. Потом взяли свои покойники и уехали. А который меня знал, может, был не покойник, а только раненый. Тяжело. Если легко, он бы пришел за ящиком. Немцы в городке стояли еще дней пять. Потом ушли. Совсем.