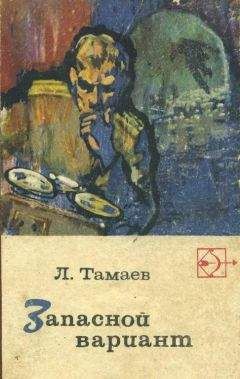— Об этом полковник Лаут может и не знать.
— А если знает?
— А если знает, то его людям нечего делать в Зеленогорске.
— В том-то и дело…
Они помолчали. Потом, закурив, Маясов сказал:
— И еще такая деталь… Наша радиослужба в июле засекла выход в эфир неизвестной быстродействующей рации.
— Запеленговали?
— Точный пеленг не получился. Но ориентировочно — Ченский лес… Понимаешь: опять район Ченска, а не Зеленогорска!..
Но этим не исчерпывалась сложность обстановки по делу. Ведущие от него нити были незримо, но крепко переплетены с нитями того дела, над которым работала ченская милиция. Чтобы не порвать их, требовалась величайшая осмотрительность при распутывании клубка. И ничем другим, как соображениями этой осмотрительности, нельзя было объяснить наказ полковника Демина перед его отъездом из Ченска: «Работу пока вести в прежнем направлении». По крайней мере так это понимал Маясов.
Но Маясов понимал и другое: никто так не знал обстановку по этому делу, как он сам. И там, где Демин, принимая то или иное решение, может быть, колебался из-за недостаточного знания всех обстоятельств, для Маясова подобных сомнений не было. Отчасти поэтому он теперь и решился на активные действия до возвращения заместителя начальника управления в Ченск.
В новом оперативном плане Маясов в числе прочего наметил побеседовать с Ласточкиным и Булавиной, людьми, наиболее близко знавшими Савелова. Хотя и Ласточкин и Булавина уже вызывались в милицию как свидетели, Маясов считал необходимым с ними поговорить еще раз. Причем в обстановке, не напоминающей допроса. Особенно нужным был разговор с Булавиной, в отношении которой появились новые сведения.
Обе беседы Маясов вначале думал провести сам, но, поразмыслив, решил послать к артистке капитана Дубравина: может быть, обаяние заядлого театрала сыграет свою роль. Сам же он поехал в Дом культуры — к Ласточкину.
Через три часа Владимир Петрович вернулся в отдел. К сожалению, его разговор с Ласточкиным не много прибавил к тому, что уже было известно.
Вскоре вернулся и Дубравин. Несмотря на жару, он был в полном параде: новый светло-коричневый костюм, белоснежная рубашка и хорошо повязанный галстук. Прямо с порога капитан сказал густым басом:
— Или эта кареглазая что-то темнит, или я ни шута не понимаю в людях!
Маясов удивился. Он достаточно хорошо знал этого могучего, добродушно-спокойного человека. Знал, что он умеет ровно держать себя в любых обстоятельствах. Сейчас же Дубравин был явно не в своей тарелке.
— Ну, ну, рассказывай! — нетерпеливо предложил Маясов.
То, что капитан сумел выудить из беседы с Ириной Булавиной, заинтересовало Маясова новизной некоторых деталей, которые могли повернуть дело совсем в другом направлении.
Когда Дубравин закончил свой рассказ, Владимир Петрович спросил:
— Так, говоришь, портсигарчик смутил ее?
— В этом вся соль…
— Хорошо! — Маясов поднялся из-за стола, открыл сейф, вынул из него тощую папку с делом о розыске Букреева и начал быстро листать, что-то отыскивая. Наконец нашел, уткнулся в какой-то лист, забыв о сидящем в кабинете Дубравине. Потом, видимо, вспомнив, сказал:
— Поработал ты, Николай Васильевич, неплохо. Иди отдыхай.
Когда капитан ушел, Маясов начал снова читать букреевское дело. В седьмом часу вечера он закрыл папку, отодвинул ее от себя. Некоторое время сидел неподвижно, уставив невидящий взгляд куда-то в стену. Потом вдруг сказал негромко:
— Теперь при помощи Шестакова и попробуем все повернуть! — И решительно протянул руку к телефону.
Остро необходимого разговора с начальником уголовного розыска у Маясова в тот вечер не получилось: дежурный сказал, что подполковник уехал из отдела «ровно в семнадцать ноль-ноль».
«Ишь ты, какой пунктуальный стал, — досадливо усмехнулся Маясов. — Что-то на него не похоже…»
Наутро, прямо из дому, Владимир Петрович поехал в милицию. Шестаков был у себя. Он сидел за столом, через лупу разглядывал лежавший перед ним фотоснимок. Вид у подполковника был нездоровый: лицо желтоватое, под глазами мешки.
— Загрипповал, что ли? — спросил Маясов.
Шестаков не ответил, только кивнул, приглашая сесть.
— Нового ничего нет? — привычно поинтересовался Маясов.
Шестаков мрачно усмехнулся:
— Ты что, думаешь, если к нам будешь через день ходить, то расследование ускорится?
— А кто же вас подталкивать должен, как не я, — шутливо сказал Маясов.
Но Шестаков не принял шутки.
— Я тебе, Владимир Петрович, уже говорил: пока Женьку Косача не разыщем, едва ли распутаем этот клубок.
— Ладно, — сказал Маясов, — я сейчас не за тем приехал.
И он коротко рассказал, что удалось узнать за последнее время о любовнице Савелова — Булавиной.
— В общем ведет она себя как-то неестественно и в высшей степени нервозно, — заключил Маясов.
— Для нас это не новость, — сказал Шестаков. — В ее положении спокойной быть нельзя.
— Отчасти правильно. Но если это горе и искренне то за ним стоит что-то еще, какой-то непонятный страх… И другое припомни: ее показания здесь, в милиции, — из допроса в допрос одно и то же, со скрупулезной точностью, будто зазубрила.
— И что же ты предлагаешь?
— Мы к этой артистке не первый день присматриваемся. А теперь я пришел к выводу, что прежний план действий надо поломать и все повернуть по-другому.
— Давай точнее.
— Предлагаю вызвать Булавину к нам, в КГБ, допросить ее вполне официально и при этом посмотреть, как она станет реагировать. Это будет началом…
— Обожди! — Шестаков протестующе подняв широкую ладонь. — У нас с полковником Деминым договоренность: мы ведем следствие и вас информируем. Что касается твоей затеи, я не вижу в ней необходимости: в милиции ли допрашивать Булавину или в КГБ, какая разница?
— Есть разница, и большая! — горячо сказал Маясов. — К допросам в милиции Булавина, если хочешь, привыкла. Вызов же в КГБ заставит ее взглянуть на происходящее с иных позиций: почему это вдруг органы госбезопасности заинтересовались этим, так сказать, сугубо уголовным делом? Короче говоря, новая обстановка должна вызвать у нее новую реакцию.
Шестаков задумчиво погладил бритую голову, сказал:
— Нет, Владимир Петрович, на это я не могу пойти.
Посмотрев на его плотно сжатые губы, Маясов понял, что дальнейший разговор с подполковником бесполезен: он сейчас находился в таком состоянии, что его раздражало всякое неосторожно сказанное слово. И виной, видимо, была болезнь.
Перед тем как уехать к себе в отдел, Маясов от Шестакова прошел в комнату следователя, попросил у него протоколы допроса Булавиной и, пристроившись у круглого столика, покрытого зеленым сукном, начал их перелистывать. Сделав три коротенькие пометки в записной книжке, Маясов вернул протоколы следователю.
— Спасибо… Кстати, что с Шестаковым? Какой-то он сегодня странный.
Следователь снял очки, близоруко прижмурил глаза.
— У него, Владимир Петрович, горе. Вчера единственную дочь похоронил… Порок сердца… В двадцать-то лет!
Маясов ничего не сказал. Молча пожал руку следователю и вышел из комнаты. Спустившись с лестницы, он пошел опять к Шестакову. Быть может, стоило попросить извинения за то, что так не вовремя и бесцеремонно полез к нему со своими делами.
Маясов открыл дверь. И тотчас плотно притворил ее: в кабинете начальника уголовного розыска на стульях, расставленных вдоль стены, сидело человек шесть сотрудников. Сам подполковник что-то негромко говорил, постукивая о стол рукояткой лупы. По всей видимости, шло оперативное совещание.
Маясов с минуту постоял в нерешительности, потом пошел к выходу. Всю дорогу до отдела, сидя в машине, он мрачно молчал. Было скверно от сознания собственного бессилия помочь человеку, оказавшемуся в беде.
У себя в кабинете Маясов долго сидел, раздумывая над сложившейся обстановкой. В конце концов начальник областного управления КГБ рано или поздно должен узнать о его самовольно начатых действиях.
Владимир Петрович снял трубку с белого телефона, набрал номер. Поздоровавшись с генералом, стал с помощью переговорного кода докладывать о том новом, что выявилось по делу Савелова в последние дни. Закончил он просьбой о разрешении на допрос Булавиной.
Винокуров помолчал, потом сказал:
— Не возражаю. Но все же посоветуйтесь на месте с Деминым. Он сегодня вылетел к вам.
Если отбросить все чисто психологическое и потому в какой-то степени субъективное, то фактически полученное капитаном Дубравиным из беседы с Булавиной сводилось к тому, что она действительно видела у Савелова серебряный портсигар с орлом на крышке.