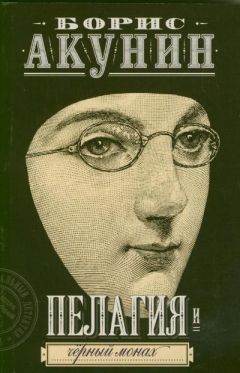— Да я понимаю. Просто обидно, когда ты — живой человек, и вдруг окажешься маленькой щепкой.
— А это смотря из какого материала ты сделан, — убежденно сказал на это старший майор. — Если ты из деревяшки, то да, щепка. А если ты из железа, дело другое. Помнишь у Тихонова:
«У кого жена, дети, брат —
Пишите, мы не придем назад.
Зато будет знатный кегельбан».
И старший в ответ: «Есть, капитан».
Егор кивнул:
— Помню. В школе учил. «Гвозди бы делать из этих людей. Крепче б не было в мире гвоздей».
— Это про моряков. А мы, работники Органов, должны быть не из железа, из стали. Не гвоздями мы с тобой станем, а несгибаемыми болтами, на которых держится огромная конструкция. Знаешь, что такое бессмертие? Это когда ты погиб, а конструкция стоит тысячу лет — благодаря тебе и таким, как ты. Ты еще вот что учти, Дорин. Там, с германской стороны, болты тоже не деревянные. И конструкция у фашистов ого-го какая, тоже собирается тысячу лет простоять. Сшибемся мы с ними, обязательно сшибемся — не в сорок первом году, так в сорок втором, и устоит тот, у кого болты крепче. Вассеровского связника видел? Из крупповской стали был болт, самой высокой марки.
— Я, шеф, про него всё время думаю… — Егор почесал затылок. — Ну, что он стальной — это ладно. Мне другое покоя не дает. Ведь Селенцов этот, или как там его на самом деле, фашистюга был. Так? Но за детей прятаться не стал. А ведь мог. Как бы мы тогда его брали?
Октябрьский смотрел на младшего лейтенанта с веселым недоумением, будто Егор сболтнул глупость,
— А ты как думал? Если враг, то обязательно и сволочь? Это пускай агитпропработники населению мозги пудрят, а мы с тобой профессионалы, нам дурачками быть нельзя — так недолго и ошибку сделать. Нет, Егорка, фашисты такие же люди, как мы. И самоотверженные среди них есть, и добрые, и честные. Тут штука не в том, кто лучше, кто хуже. Вопрос — кто кого: мы их, или они нас. Потому что двум нашим конструкциям на земле места не хватит. Так-то, брат.
И потянулись вязкие дни, неотличимые друг от друга, как кильки в томате: точка-тире-точка-тире часы напролет, до красных кругов перед глазами. Иногда Егору казалось, что это он так молится божку, который безучастно мерцает черным лаком на стене в коридоре, глухой к мольбам и жертвоприношениям.
Телефон молчал. Неделю, вторую, третью…
Неужели Нарком с Октябрьским ошиблись, и у Вассера есть какой-то резервный канал связи? Тогда получается, что восемьдесят два человека погублены впустую?
По ночам Егору снилось, что он сплавляет по Волге лес и провалился в щель между стволами. Хочет вынырнуть, но бревна смыкаются над головой, только это никакие не бревна, а человеческие тела. Одно за другим они медленно скользят вниз, безвольно раскинув руки, и есть там женщины с красиво струящимися волосами, есть дети с широко раскрытыми невидящими глазами…
Еще снилось, что он сам — дерево, и настырный черный дятел почерком Степана Карпенки колотит ему по коже-коре своим острым клювом: пии-пии-пии, пи-пи, пи-пи, пи-пи, пии-пии-пии.
Степан один раз тоже приснился. Ничего жуткого не делал, просто сидел на полу, где пятно, смотрел на Дорина и всё повторял: «Вже скоро, вже скоро», а что скоро, не объяснял. То ли Вассер объявится, то ли что другое.
А Надя в снах младшего лейтенанта ни разу не появлялась, хотя наяву он думал о ней постоянно, мысленно разговаривал — всё больше корил, резал правду-матку, а когда она, устыдившись, начинала просить прощения, то иногда поворачивался и уходил, а иногда прощал. По настроению.
Тоскливое было время, хотя вроде бы май, сияет солнышко и с каждым днем заходит всё позднее. Только что Егору было проку от весны? У него в комнате крутились бобины, мигала лампочка на передатчике, по стеклу ползала полусонная муха. Тюремная камера, да и только.
И, как в тюрьме, ежедневно часовая прогулка, главное событие суток. Если за домом следят, то ни в коем случае не должны подумать, будто Карпенко сидит под присмотром. Агенту положено изучать топографию местности: схему движения общественного транспорта, проходные дворы и прочее. Вот Егор и изучал.
Однажды во время очередной «топографической разведки» дошел до Солянки, а оттуда ноги сами собой вынесли на Радищевскую улицу, к больнице имени Медсантруда. Почему бы агенту Абвера не исследовать и этот район? Чем он хуже других?
А как оказался у больничной ограды, неудержимо захотелось взглянуть на Надю, хоть одним глазком. И надо же так случиться, что как раз угадал на конец ее дежурства. Повезло. Или наоборот — это как смотреть.
За решеткой Дорин расположился по всем правилам конспирации: двор как на ладони, самого не видно.
Десяти минут не прождал — выходит из дверей Надежда. Одета по-летнему: широкая юбка, на голове береточка, на ногах белые носочки, туфли-лодочки. И показалась она ему ужасно красивой — может, из-за нарядной одежды или потому что соскучился. А может, и в самом деле была она ужасно красивая, просто он раньше этого не замечал.
Сначала Егор только ее и видел, что понятно: в глазах потемнело, и здорово застучало сердце. А потом разглядел, что Надежда не одна. Идет с ней какой-то долговязый ферт, в шляпе, в галстуке, при длиннющем носе. И молодой, гад. Главное, сразу было видно, нравится она ему ему — Егор этот мужской взгляд хорошо знал, поганую эту улыбочку.
Дылда наклонялся к Надежде, будто хотел тюкнуть ее своим клювом, в глаза ей заглядывал, а она смотрела на него снизу вверх, доверчиво так, серьезно. Потом этот что-то пошутил, и она засмеялась.
Весело ей, значит, горько подумал Дорин. А про долговязого предположил: наверняка это и есть талант Маргулис, которым она и ее папаша восхищались. Или Моргулис, черт его знает.
Дальше — хуже.
Подвел Маргулис-Моргулис чужую девушку к кремовой «эмке», галантно распахнул дверцу. Надя села, и они уехали, а Егор остался, так ею и не замеченный.
Машину ему советская власть выдала, а сам наверняка тоже против нее фырчит, по царским временам вздыхает, несправедливо и голословно подумал Егор про длинноносого доктора. Но сейчас было не до справедливости. У Дорина в груди был вулкан, как поется в песне «Кукарача».
Значит, я у вас, Надежда Викентьевна, первый и последний? Эх вы, женщины…
Пока она еще не вышла, был у Егора план. Подойти, поговорить по-доброму, без мелодрам. Чуть-чуть приоткрыть, каким делом занимается — не со своими гражданами воюет, как энкавэдэшники, а с немецкими шпионами. Хотел даже про скорую войну рассказать, чтоб осознала: он Родину защищает. Но после Моргулиса с его «эмкой» Егор откровенно разговаривать с Надеждой передумал. Потому что на этот раз обиделся смертельно, до гробовой доски.
Шел на Кузнецкий широким, злым шагом.
Микроскопная интеллигентская психология, дешевое чистоплюйство. Можно себе представить, что было бы с Надей, если б узнала про троллейбус. Закричала бы: «Изыди, прислужник Сатаны! Сгинь, нечистая сила!». А кто вас, таких чистеньких, добреньких, от фашистов защищать будет? Вот придет Гитлер со своим СС и гестапо, заставит вас сапоги ему лизать, на Моргулиса вашего желтую звезду прицепит, то-то завоете: «Ой, спасите! Ой, помогите!» Да поздно будет.
Вот какое горькое событие произошло с Егором в эти майские дни.
Было и еще одно событие, но уже не горькое, а радостное.
Как-то ночью (десятого мая это было, даже уже одиннадцатого, потому что после полуночи) вдруг позвонил Октябрьский — не по городскому телефону, а по специальному, проведенному в квартиру для служебных надобностей. «Немедленно ко мне в кабинет». Голос строгий.
Со всеми положенными по инструкции предосторожностями Дорин вышел на пустой Кузнецкий. Потягиваясь и позевывая, ленивым шагом двинулся в сторону Лубянки: вроде как решил прогуляться среди ночи — может, не спится человеку или, наоборот, проснулся и вышел пройтись.
Убедившись, что слежки нет, нырнул в подъезд нового корпуса, пристроенного к ГэЗэ во времена вредителя Ягоды.
На улице в этот поздний час не было ни души, а на Лубянке кипела самая работа. По лестницам и коридорам ходили сотрудники. Лица сосредоточенные, походка деловитая. Если б Егор видел это впервые, то подумал бы, что случилось какое-нибудь чрезвычайное происшествие общенаркоматовского масштаба, но это был обычный режим работы. Как пошутил однажды Октябрьский, у ЧК вся жизнь сплошное ЧП.
Старшего майора Егор встретил на седьмом этаже — выходящим из кабинета.
— Семь минут, товарищ младший лейтенант. Заставляете себя ждать, — сказал шеф вроде бы сурово, но в синих глазах поблескивали искорки. Егор сразу их приметил. Только истолковал неправильно, подумал — новости про Вассера. Внутри всё так и сжалось. Наконец-то!
— Я по инструкции, — начал он объяснять. — Нельзя же сразу, надо было проверить…