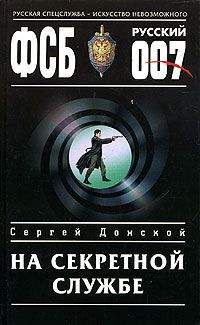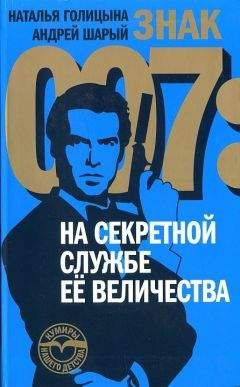– А на прошлой неделе?
– Еще скажи: в прошлом месяце!
– Удивляюсь тебе, – раздраженно произнесла Оксана. – Другие после похорон сорок дней в трауре ходят, а у тебя одно на уме. Как можно?
– Но мне одиноко! – повысил голос Пинчук. – Мне человеческого тепла хочется!
– Ладно, грейся. – Она взбрыкнула ногами, сбрасывая с себя покрывало. Легла на бок, повернувшись к нему задом. Предупредила: – Только я спать буду, учти.
Ее ягодицы походили на детские, а позвонки, обозначившиеся под кожей, выглядели так трогательно, что возбуждение незаметно покинуло Пинчука, сменившись нежностью, от которой щипало в носу. Виновато шмыгая носом, он свесил ноги с кровати, сунул их в пушистые тапочки, набросил халат и тихонько вышел из спальни.
* * *
Ночь выдалась не по-осеннему теплая. Несмотря на ветерок, долетавший с моря, в воздухе совсем не ощущалось сырости. Звезды на небе были почти такими же яркими, как далекие огни города, рассыпанные вдоль горизонта.
Прежде чем спуститься по лестнице в сад, Пинчук постоял на террасе, любуясь жемчужными россыпями на темно-фиолетовом фоне. Он обожал город, в котором родился, вырос и, увы, состарился. Одесса всегда напоминала ему огромную сценическую площадку с дивными декорациями. Зодчие, возводившие город, позаботились о том, чтобы каждый фасад, каждый фронтон был освещен солнцем, чтобы свет и тень играли на стенах великолепных дворцов, храмов и доходных домов. В планировке Одессы чудилась некая воздушность, особенно когда среди зданий и зелени просматривалось море.
Море… Когда глядишь на него, душа раскрывается, подобно парусу. Жить у моря совсем не то, что чахнуть среди бетонных коробок и бензиновой гари.
Это была одна из двух причин, побудивших Пинчука обосноваться не в шумном центре, а на отшибе, как можно ближе к берегу. Вторая причина не имела с романтикой ничего общего. Сплошной прагматизм. В буйные девяностые годы не было во всей Одессе места более безопасного, чем так называемый поселок Палермо, или Шевченко-2, как именовался он в официальных документах.
Точнее сказать, в полной безопасности ощущали себя здесь только постоянные обитатели, действительно смахивавшие на итальянцев из Палермо. Это были цыгане, те самые цыгане, которых, если верить результатам последней переписи населения, проживало в Одессе всего восемь сотен.
Мысль поселиться среди них осенила Пинчука случайно. Однажды, сидя в машине, он от нечего делать наблюдал за пестрой гурьбой цыганок, прохаживавшихся перед ЦУМом. Выбирая очередную жертву, они окружали ее плотным кольцом и принимались наперебой рассказывать про тайных недоброжелателей, про казенный дом, дальнюю дорогу, печаль на сердце, требуя взамен монетку на ладонь. Ошеломленные натиском прохожие, как правило, подчинялись, в результате чего оставались без всей наличности.
Пинчук громко сопел, дергая себя за брови с таким остервенением, словно намеревался выщипать их до последнего волоска. Цыгане раздражали его. Раздражали своей назойливостью, попрошайничеством, бесцеремонностью, неряшливостью.
Давить их надо, размышлял Пинчук, давить, как вшей, как клопов. А еще лучше – сжечь эту заразу скопом.
Примерно в этом духе он высказался, когда в машину подсел полковник милиции, один из тех, кто защищал бизнес Пинчука от многочисленных рэкетиров. На что полковник, невесело рассмеявшись, ответил примерно следующее: а известно ли Григорию Ивановичу, что милицейский наряд даже на пушечный выстрел не осмеливается приблизиться к Палермо? И представляет ли себе Григорий Иванович, какими деньжищами ворочают тамошние наркобароны? Нет? Тогда пусть он распрощается со смелыми фантазиями насчет искоренения цыганского племени. Цветастые юбки, чумазые детишки и золотые зубы – это лишь мишура, видимость, за которой скрывается опаснейшая мафия, организованная по примеру сицилийской. Может быть, сами цыганские бароны и не вхожи в высокие кабинеты, но за них это делают те, кому заплачено. Кроме того, ни один убитый цыган не остается без отмщения, а круговая порука у них такая, что не подступишься.
Они как партизаны в немецком тылу, разглагольствовал полковник. От малых детей и до почтенных стариков стоят друг за друга горой. И несмотря на все наши бодрые рапорты, мы перед ними практически беспомощны. Никто не отваживается связываться с ними. Тронь цыгана, и завтра тронут твою семью, да так тронут, что проклянешь все на свете.
Разговор мог бы забыться, но неделю спустя неизвестные обчистили городскую квартиру Пинчука, до смерти напугав его старушку-мать. Еще через неделю он подвергся нападению обкуренной шпаны, от которой с трудом отбились двое дюжих телохранителей. А беспредел все разрастался, ширился, креп, становясь нормой жизни. Взрывались машины банкиров и депутатов, повсюду орудовали неуловимые киллеры, вчерашние спортсмены скупали паяльники, сконструированные таким образом, чтобы их было удобно засовывать в задницы несговорчивых бизнесменов. Еще некоторое время Григорий Иванович собирался с мыслями, а когда какие-то отморозки грохнули в подъезде соседа, имевшего неосторожность обзавестись шестисотым «Мерседесом», поехал к старейшине Палермо и спросил разрешения обосноваться на его территории.
Сговорились за сумму значительно меньшую, чем та, в которую обошлось возведение особняка. Цыгане были только рады соседству человека, имевшего массу полезных связей. Несколько раз Пинчук оказывал им протекцию на самых высоких уровнях, зато обзавелся неприкосновенным статусом полноправного жителя Палермо. Отныне его не тревожили ни воры, ни грабители, ни даже просто хулиганы, наводнившие Одессу. В поселке не наблюдалось ничего подобного. Здесь царили порядок и взаимоуважение. Даже самые ошалелые наркоманы, забредавшие сюда за маковой соломкой, держались тише воды ниже травы. Нарушителей спокойствия вывозили за пределы поселка и выбрасывали на свалку с глотками, перерезанными от уха до уха. Убийц никто не искал, они и так были у всех на виду. А милицейские патрули по-прежнему объезжали поселок десятой дорогой.
На рубеже двадцатого и двадцать первого века ситуация в корне изменилась. Бывшие налетчики и беспредельщики переквалифицировались в олигархов, криминальная накипь осела, в бурлящем котле рыночной экономики заварилась совсем другая каша. Дикие нравы незаметно ушли в прошлое, и необходимость держаться подальше от города отпала сама собой. Сыновья Григория Ивановича переехали в городские квартиры, однако сам он неожиданно обнаружил, что слишком свыкся с патриархальным укладом жизни в Палермо. Тут было море – не охватишь взглядом. Тут были звезды – не сочтешь. И яблони в саду шумели, и птицы пели, и дожди шелестели по ночам так упоительно, так сладко. Верилось, что это будет продолжаться всегда. До той страшной ночи, когда Пинчуку позвонили из милиции и попросили его приехать на опознание мальчиков.
Сутулясь, он брел по выложенной мрамором дорожке и старался не прислушиваться к внутреннему голосу, твердящему, что пора поворачивать обратно. Голос убеждал его, что не стоит избавляться от пистолета, который может пригодиться в самом ближайшем будущем.
Спорить с ним было бессмысленно. Пинчук прекрасно знал, что это действительно так. Да, пистолет обязательно понадобится – не сегодня, так завтра… не завтра, так через неделю… через месяц… через два… «ТТ» будет терпеливо дожидаться, пока владелец извлечет его из тайника, чтобы приставить к груди или к переносице. И искушение нажать на спусковой крючок может оказаться слишком сильным. Особенно, если Ксюшина привычка поворачиваться к мужу спиной перерастет в семейную традицию.
Пока Пинчук дошел до конца сада, его домашние тапочки успели изрядно промокнуть, но это ему даже нравилось. Он представлял себе, как возвратится в спальню, продрогший, посвежевший. Как обнимет Ксюшу холодными руками, а она взвизгнет и начнет отбиваться, но не сердито, а хохоча во все горло, лягаясь и извиваясь. Старику для счастья требуется не так уж много. Может быть, он будет счастлив даже в том случае, если молодой жене таки удастся отвертеться от исполнения супружеского долга. Но пистолет в тумбочке у изголовья старика – это явно перебор. Без него спокойнее.
Отсыревшая дверь уборной открылась с трудом, словно не желая впускать хозяина. С тех пор, когда в особняк провели водопровод, ею почти не пользовались. Окошко и черная дыра уборной заросли паутиной, всюду валялись высохшие трупики мух, позабытая туалетная бумага выглядела как свиток пергамента.
В тот момент, когда сверток с деталями разобранного «ТТ» полетел в выгребную яму, в кармане пинчуковского халата ожил, завибрировал крошечный телефон. Было глупо рассчитывать на то, что кто-то звонит в такую рань, чтобы сообщить какие-то добрые вести. Некоторое время Пинчук тупо глядел на дисплей, высветивший незнакомый номер.