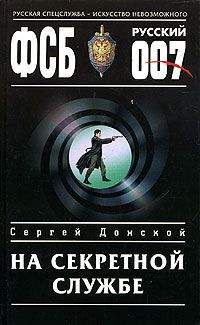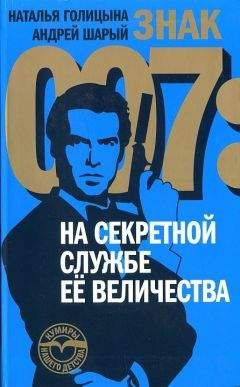Дверь в торце коридора вряд ли была заперта на крючок или задвижку, но времени выяснять это не было. Не сбавляя скорости, Бондарь прыгнул вперед ногами, ощутил на лету соприкосновение подошв с подавшейся внутрь фанерой и ворвался в спальню.
Принесенный не то лихим ветром, не то нечистой силой.
– Караул, – тихо сказала старушка, не придумавшая ничего лучше, чем сесть на кровати в своей старомодной кружевной рубахе.
– Извините за вторжение, – галантно произнес Бондарь, после чего схватил тумбочку, метнул ее в окно и, протиснувшись сквозь разбитую раму, выпрыгнул на мостовую безлюдного переулка.
В сравнении со всей этой катавасией последующий марш-бросок по ночному городу показался ему увеселительной прогулкой.
Не менее часа петлял он по одесским улицам, пересекая дворы, скверы и строительные площадки. Шума погони давно не было слышно, но Бондарь не останавливался, пока не отдалился от гостиницы «Пассаж» на несколько километров. Здесь, на безлюдном бульваре, он первым делом выяснил его название, а потом уж отыскал укромную скамейку и достал телефон. Пришло время позвонить Григорию Ивановичу Пинчуку. Не для того, чтобы пожелать ему приятных сновидений, вовсе нет.
В доме царила тишина, звенящая, давящая, пугающая. После гибели сыновей Пинчук не раз ловил себя на мысли, что он будто обречен доживать свой век в отсеке затонувшей субмарины. Особенно бессонными ночами, когда одиночество становилось совершенно невыносимым. Беспросветным, как бездна. Безмерным, как океан. Горьким, как морская вода.
Остальные люди остались за бортом, вместе со своими мелкими радостями и огорчениями. Им не было дела до всепоглощающего горя Григория Ивановича, но они ему тоже стали безразличны. Все, кроме Оксаны, Оксаночки, Ксюшеньки.
Он повернул голову и нежно посмотрел на жену, спящую на другом краю огромной кровати. В свете ночника ее лицо выглядело непривычно мягким, умиротворенным. Словно любуешься ею в размытом фокусе. Или сквозь слезы умиления.
Прикоснувшись к глазам, Пинчук убедился, что его пальцы действительно стали слегка влажными. Похороны Тараса и Андрея выбили его из колеи: душа болит, сердце пошаливает, глаза постоянно на мокром месте. Разделить участь сыновей страшновато, но и жить не хочется. Если бы не Ксюша, Пинчук давно бы застрелился – и дело с концом. Вот как Винсент Ван Гог, например.
Покрытая пигментными пятнами ладонь Пинчука легла поверх раскрытой книги, с помощью которой он пытался отвлечься от мрачных мыслей. От прочитанного оптимизма у Пинчука не прибавилось. Наоборот.
Оказывается, голландский художник Ван Гог страдал приступами безумия, один из которых привел его даже к тому, что он отрезал себе часть уха. Примерно за год до смерти он добровольно решил поселиться в приюте для душевнобольных. Там ему выделили отдельную комнату, которая одновременно служила мастерской; он получил возможность в сопровождении служителя бродить по окрестностям, чтобы писать пейзажи. Между прочим, именно в психушке у Ван Гога первый и последний раз в жизни купили картину, оценив его «Красную виноградную лозу» в четыреста франков.
Художнику бы радоваться, а он совсем пал духом. Удрал из приюта, немного побродил по полям, затем зашел на крестьянский двор. Хозяев не было дома. Тогда Ван Гог достал пистолет и приставил ствол к груди.
Выстрел был не столь точен, как мазки его кисти. Пуля, попавшая в реберную кость, отклонилась и прошла мимо сердца. Зажимая рану рукой, художник вернулся в приют и лег в постель. Вызвали полицию и врача. То ли рана не причиняла Ван Гогу больших страданий, то ли он был малочувствителен к физической боли, но только, когда прибыла полиция, он спокойно курил трубку.
Ночью он умер. Его тело положили на бильярдный стол, вокруг развесили его картины, а доктор, не сумевший спасти художника, принялся рисовать эту сцену карандашом.
Если стреляться, то только в висок, подумал Пинчук, осторожно извлекая из тумбочки пистолет, с которым в последнее время не расставался. Это был черный, с бурым отливом «ТТ». Обхватив пальцами рукоятку с тисненой звездой, Пинчук решил, что она выглядит непропорционально короткой в сравнении с вытянутым стволом. Он плохо разбирался в оружии, но знал, что пистолет был разработан в тридцатые годы Токаревым, а произведен на Тульском оружейном заводе. Отсюда и наименование «ТТ».
– Тула—Токарев, – прошептал Пинчук.
Предохранителя у пистолета не было. Его роль выполнял поставленный на взвод курок. Однако, как говорили знающие люди, это не обеспечивало безопасности владельцу. Случайно заденешь курок и прогремит выстрел.
Хотя почему обязательно случайно?
Покосившись на часы, которые показывали начало четвертого утра, Пинчук приставил ствол пистолета к виску. Указательный палец, положенный на спусковой крючок, мгновенно сделался скользким от пота. Жилка на виске запульсировала с удвоенной частотой.
Все так просто. Стоит пошевелить пальцем, совершить им почти незаметное движение, и все страдания моментально закончатся. Пуля вышибет мозги, расплещет их по голубой наволочке. Проснувшаяся Оксана сначала не поверит своим глазам, решит, что самоубийство мужа ей снится. Но это будет лишь началом настоящего кошмара. В доме соберутся врачи, следователи. Понаедут многочисленные родственники, рассчитывающие урвать свою долю наследства. Чуть позже к общей суете подключатся шантажисты, требуя от Оксаны выдачи деловой документации, а может быть, и доступа к банковским счетам. Не останутся в стороне также представители спецслужб. Ксюша останется совсем одна, лицом к лицу со всей этой свирепой сворой. Одни будут стараться цапнуть ее побольнее, другие станут просто крутиться рядом, норовя залезть под юбку.
Нет, только не это! Пинчук не оставит жену на произвол судьбы, не отдаст ее на растерзание. Он должен жить, должен быть рядом. Он мужчина, он сильный, несмотря на преклонный возраст. Несмотря на солидный возраст, поправился Пинчук, так звучит лучше. А совсем хорошо будет, если опасная игрушка исчезнет. Заряженное ружье однажды непременно выстрелит, это любому известно. Пистолет – тем более.
Усевшись на кровати поудобнее, Пинчук принялся разбирать «ТТ», как это научил его делать инструктор. Для начала он извлек из корпуса колодку, в которой были соединены детали ударно-спускового механизма, но этим не ограничился. Через несколько минут поверх раскрытой книги лежали все эти промасленные штуковины, из которых состоял пистолет: затвор, направляющая втулка, крышка и защелка магазина, какие-то винтики, какие-то шпунтики. Раскуроченный корпус Пинчук сунул обратно в тумбочку. Детали принялся заворачивать в методично вырываемые из книги страницы.
– Ты с ума сошел?
Повернувшись на голос Оксаны, он виновато улыбнулся:
– Разбудил? Прости, маленькая.
Сонное недоумение в ее глазах сменилось враждебностью:
– Я спрашиваю, ты с ума сошел? Что ты делаешь?
– Тебе книгу жалко? – удивился Пинчук. – Ты ведь не читаешь книг.
– На покрывало посмотри, – прошипела Оксана. – Все изгваздано, изгажено.
Покрывало действительно выглядело не лучшим образом. Типографская краска и оружейная смазка оставили на нем немало пятен. Комкая в руках бумажный ворох с металлическими деталями внутри, Пинчук кашлянул и примирительно сказал:
– Не сердись, маленькая. Завтра будем спать на новой постели.
– Которую ты опять перепачкаешь, да? – Зевнув в кулак, Оксана села. – И за каким чертом тебе понадобилось возиться с пистолетом ни свет ни заря? – Она наклонилась вперед, чтобы получше разглядеть часы. – Половина четвертого, подумать только!
– Понимаешь, – медленно произнес Пинчук, – не могу уснуть, хоть тресни. Мысли всякие одолевают.
– Мысли? Какие мысли? – Уставившись в зеркало, Оксана попыталась распушить слежавшиеся волосы.
– Невеселые. Можно даже сказать, печальные.
– А. – Это было произнесено без всякого выражения. – Бывает.
– Лежу вот, сыновей вспоминаю. Тарасика… Андрюшку…
– Ну да, ну да, – покивала Оксана. На ее боку, обращенном к Пинчуку, розовели замысловатые узоры, оставленные складками простыни. Голые грудки воинственно торчали в разные стороны. За них хотелось подержаться. К ним тянуло припасть губами.
Прежде чем заговорить снова, он был вынужден сглотнуть набежавшую слюну:
– Иногда так тошно становится, так тошно…
– Успокоительное принимать нужно, – авторитетно заявила Оксана.
– Ты для меня – лучшее успокоительное, – хрипло признался Пинчук. – Иди ко мне, маленькая.
– Мы же договаривались, Гриша. Только когда я сама захочу.
– Но ты никогда не хочешь!
– А на прошлой неделе?
– Еще скажи: в прошлом месяце!
– Удивляюсь тебе, – раздраженно произнесла Оксана. – Другие после похорон сорок дней в трауре ходят, а у тебя одно на уме. Как можно?