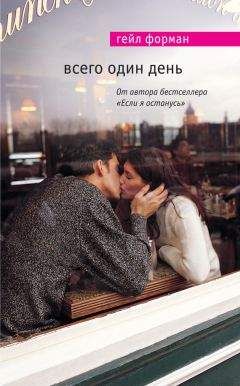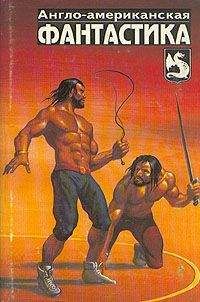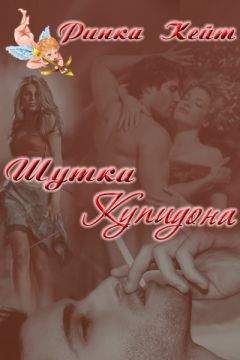— Нет-нет. Продолжай. Всё, что ты говоришь, интересно и заслуживает внимания.
— Тогда я позволю себе сказать ещё несколько слов. Вам предстоит преодолеть одну неимоверную трудность, о существовании которой вы, вероятно, и не подозреваете. Я же ясно вижу её, будучи человеком со стороны. Речь идёт о традиционном для Аурики неуважении к человеческой личности как следствии многовекового деспотизма. Это тоже не отменишь декретом. Традиции почти так же устойчивы, как инстинкты. Особенно дурные традиции. И ради всего святого не допустите того, чтобы у вас диктатура народа сменилась сначала диктатурой группы личностей, а впоследствии диктатурой одного лица. Это будет означать гибель революции. И в сотый раз окажется правым Бисмарк, который заметил как-то, что революции подготавливают гении, а осуществляют фанатики; плодами же их пользуются подонки. Не дайте пролезть к власти выходцам из буржуазных семей, хамам. Хам в руководящей позиции — это равнодушие к судьбе народа, косность, коррупция, гниение, мерзость… Ну, а что касается гуманности и необходимой жестокости, то они у вас, на мой взгляд, сочетаются в правильной пропорции.
Аурелио рассмеялся.
— Компаньеро, слушая тебя, можно подумать, что ты всю жизнь занимался организацией революций.
— Просто я много думал об этом.
— Скажи лучше: чем мы можем быть полезными тебе?
— Пусть кто-нибудь из твоих людей проводит меня через границу до ближайшей железнодорожной станции на той стороне.
— Это сделает Педро. Согласен?
— Конечно. Спасибо тебе, Аурелио.
— И тебе спасибо. Жаль, что наше знакомство было таким коротким. Мне кажется, мы могли бы стать друзьями… Однако пора уходить в наши родные джунгли. Правительственные войска, вероятно, уже спешат сюда. В 6.00 выступаем.
Я взобрался к зубцам самого высокого из бастионов Монканы и, поставив локти на замшелый грубо обтесанный блок ракушечника, глянул вниз, туда, где в провалившейся на дно вселенной сизой глубине беззвучно грохотал и пенился прибой. Так стоял долго, а когда поднял голову, то увидел малиновое солнце, всплывающее из розовато-дымчатого океана. Часы на крепостной башне скрипнули, звякнули, прохрипели первые такты государственного гимна Аурики и гулко раскатили по утренней тишине шесть тяжелых ударов. Прошло ровно семь часов с той минуты, как я простился с Исабель.
(написан Марией Селениной — журналисткой, дочерью рано погибшего друга Алексея Ростовцева)
В начале избирательной кампании 2000 года Служба внешней разведки России обнародовала материалы об американском объекте «Дабл ю-эйч», полученные в середине семидесятых годов от советского разведчика-нелегала Алексея Ростовцева. Дядя Лёша в единый миг стал сенсацией, модой и козырной картой в большой политике. Он смотрел с газетных полос, с журнальных обложек, с телеэкранов — надменный красавец в гвардейском мундире прошлого века, увешанном звёздами орденов: пошловатые усики делали его совершенно неузнаваемым. Как водится в таких случаях, вокруг имени дяди Лёши быстро накручивался клубок сплетен и слухов. Болтали и писали, что он в девяносто третьем то ли помогал президенту взять Белый дом, то ли защищал парламент на стороне коммунистов и патриотов, а в девяносто пятом воевал в Таркистане то ли советником в армии Джумаева, то ли во главе специального отряда российских войск, промелькнула даже утка о том, что американская разведка в конце семидесятых годов выменяла его за бутылку шоколадного ликёра у какого-то азиатского племени, чем спасла ему жизнь. Само собой, делались предположения о его нечистых связях с ЦРУ. Цепляющиеся за власть демократы стремились погасить мощную волну антиамериканских настроений, которая с грозным гулом понеслась по стране после опубликования сведений о целях и способах претворения в жизнь программы «Дабл ю-эйч». Оппозиционеры всех мастей намеревались вкатиться на этой волне в Кремль. Первые обливали дядю Лёшу потоками нечистот, вторые требовали воздвигнуть ему памятник.
В самый разгар всей этой возни и шумихи меня пригласили в Центр общественных связей СВР. Беседовал со мной пожилой хорошо воспитанный человек интеллигентной внешности, назвавшийся Михаилом Николаевичем. Для затравки он рассказал мне, что в молодости служил под началом полковника Ростовцева и сохранил о нём наилучшие воспоминания. Я отнеслась к этому сообщению прохладно. В последние годы спецслужбы доставляли мне и моим друзьям массу неприятностей. Любить мне их было не за что. Почувствовав мою насторожённость, он заехал с другой стороны.
— Вы дочь офицера КГБ, погибшего при исполнении служебных обязанностей, не так ли?
— Так.
— Я читал личное дело вашего отца и подумал, что если в вас его гены, то вы не откажете нам в помощи.
— Вам, по-видимому, известно о моей принадлежности к непримиримой оппозиции. Вы служите режиму, я хочу его опрокинуть. На какую же помощь с моей стороны вы можете рассчитывать?
— Речь идет о восстановлении доброго имени Алексея Дмитриевича Ростовцева. Я знаю, что вы относились к этому человеку с большим уважением.
— Уважение — не то слово. Он заменил мне отца. Непонятно только, для чего режиму понадобилось восстанавливать доброе имя своего заклятого врага.
— Не режиму, а России. В общем-то это моя инициатива, но руководство разведки меня поддержало.
Он извлек из ящика стола и развернул передо мной пожелтевший номер «Комсомольской смены».
— Как долго вы знали Ростовцева?
— Всю жизнь.
— Ваша жизнь — срок невеликий, но для опознания личности вполне достаточный… Я не спрашиваю, кто этот старый разбойник со снайперским карабином, хотя обязан был начать именно с такого вопроса. В нарушение всех правил сообщаю вам, что мнение наших экспертов однозначно: это Ростовцев. Отставной генерал Рогачёв утверждает, что на снимке пропавший без вести полковник Муромцев. Дочь Алексея Дмитриевича — Марина Алексеевна родного отца узнавать не хочет.
Дядя Лёша, небритый, с напряженным лицом, смотрел на меня взглядом затравленного волка, будто спрашивая: «Ну что, Машенька, ну что, милая, выдюжим, выстоим или падём?»
— А вы не догадываетесь, Михаил Николаевич, почему Марина не узнает родного отца?
— Конечно, догадываюсь. Догадываюсь и полагаю, что надо исключить её из игры. Мы не имеем права подвергать опасности родных Ростовцева. Марина Алексеевна носит фамилию мужа, и найти её нелегко.
— О какой игре идёт речь?
— Полковник Муромцев обвиняется в получении взятки, присвоении пятисот тысяч долларов и прочих смертных грехах.
— Какая чушь! Он не мог взять чужих денег. Он был русским интеллигентом в седьмом поколении. Он вообще ни во грош не ставил ценностей материальных!
— Мне не нужно этого доказывать. Я хорошо помню его.
— Кому же следует это доказывать?
— Вот! Тут мы и подошли к самой сути. Дело в том, что Стас Флоридский готовит пространный репортаж-расследование. Часа на два. И всё об Алексее Дмитриевиче. В прямом эфире, между прочим. «Давайте разберёмся!» — так это будет называться. Безобидно. Благопристойно. Человек хочет разобраться. Что тут плохого? Он уже был у меня. Я передал ему кое-какие материалы. Говорил с ним. Глубоко копает. Умён. Хитёр. Как бы эта передача не стала решительным их боем за обладание Россией. Кстати, я попросил бы у вас разрешения снять копии с Записок Алексея Дмитриевича. Они могут понадобиться как нам, так и этим сукиным детям.
— Вы не боитесь говорить мне такие вещи?
— Наши источники характеризуют вас как человека глубоко порядочного.
— Весьма польщена.
Стаса Флоридского хорошо знала вся страна и ещё половина света. Он был лучшим телеведущим двух взаимоисключающих режимов. То, что вытворял Стас в эфире, я назвала бы высшим пилотажем политического проституирования. Когда-то он, отрабатывая скромные советские командировочные, самоотверженно и весьма умело отстаивал перед американской публикой чистоту коммунистической идеи, чем навлёк на себя гнев самого Рейгана. Однажды кто-то из американцев спросил, что побудило его вступить в КПСС. Флоридский закатил глаза к небу и, положив руку на грудь, ответил голосом провинциального трагика, что это нелёгкое решение он выстрадал и взлелеял в недрах своей души. Демократы платили ему за каждый выход в эфир от тридцати до пятидесяти тысяч баксов, это были неплохие деньги. За них он с великим остервенением топтался по своей первой любви — коммунистической идее, вытирая об неё подошвы ботинок и приплясывая на её казавшемся бездыханным теле. При всём при том не лгал и не клеветал, а занимался диффамацией — предвзятым и тенденциозным освещением фактов, делая это столь искусно, что обыватель уходил от ящика в постель, абсолютно не замечая лапши, обильно развешанной на его ушах.