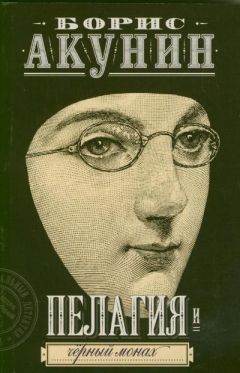Ознакомительная версия.
Щелкнул выключатель, и лейтенант ослеп от яркого электрического света.
По полу простучали каблучки, остановились возле кровати.
Это была она. В кокетливой шляпке, в светлом прорезиненном плаще, забрызганном дождем. Лицо надменное, властное.
Судя по тому, что дверной проем за ее спиной не чернел, а серел, сейчас был день.
— В уборную, — прохрипел Егор, у которого от крика совершенно сел голос.
Она молча залепила ему рот пластырем. Зачем, почему? Демонстрирует, что все равно не поверит ни единому слову?
А Дорин заготовил целую речь: про свою верность великой Германии, про готовность ответить на любые вопросы, выдержать какую угодно проверку.
Зря старался. Слушать его она не собиралась Для нее Карпенко — недочеловек, Untermensch.
По-прежнему не произнося ни слова, Вассер поколдовала над ремнем, державшим левое запястье Дорина, просунула иголку в другую дырочку. Теперь рука могла отодвинуться от решетки сантиметров на двадцать. То же самое шпионка сделала с левой рукой Потом пристегнула одно запястье к другому, и лишь после этого отсоединила оба ремня от спинки.
Егор, застонав, сел на кровати. У него отчаянно ныли плечи, локти, кисти, и всё же держать руки перед собой, согнутыми было настоящим наслаждением.
Пока он сгибал и разгибал суставы, Вассер сцепила ему ноги, отстегнув их от противоположной решетки.
Сначала Дорин сел на кровати, потом встал. Покосился на женщину, подумав, что можно было бы неплохо врезать ей даже и сцепленными кулаками. Но Вассер бдительности не теряла — всё время держалась сзади и чуть сбоку.
Она подтолкнула его в спину. Егор понял — к дырке в полу.
Идти он мог только крошечными шажками. Расстегнул ширинку, промычал: мы-мы-мы-мы-мы-мы, что означало «отвернулась бы хоть».
Вассер поняла, но глаз отводить не стала, только скривила губы.
Мучительно покраснев от унижения, Егор промычал как можно отчетливей: му-ма («сука»).
— Давай-давай, — сказала она. — Для меня существует только один мужчина. А ты для меня — мышь.
Какой такой мужчина? Наверно ихний Фюрер, подумал Егор.
— Руки мыть. — Она толкнула его к умывальнику, когда он закончил.
Вот гнида немецкая! Еще культурности учит!
Допрыгав до раковины (семенить Егор счел ниже своего достоинства), он не только вымыл руки, но сунул под струю голову. Потом напился. Какое, оказывается, счастье обычная водопроводная вода.
— Есть, — пихнула его к столу Вассер.
Кроме давешней надкусанной булки никакой еды там не было.
Может, объявить голодовку протеста, заколебался Дорин, еще не опомнившийся после перенесенного унижения. Нет, Карпенко голодовку объявлять бы не стал.
— Одно слово — и снова залеплю. Останешься без хлеба, — предупредила Вассер, прежде чем отодрать пластырь.
Он очень старался есть не жадно, но всё же проглотил зачерствевшую булку в три укуса.
— Хорошо проведешь сеанс, получишь вторую, свежую.
Вассер достала из сумки еще одну булку, сунула под нос — понюхать. У Егора от запаха теплого хлеба закружилась голова.
— Будешь работать?
Он кивнул.
Тогда она смахнула со стола крошки, пододвинула рацию. Сама надела ему наушники, всё время держась сзади.
Приемник тоже включила сама.
Минуту спустя в телефонах запищали позывные немецкого Центра:
— 7373,7373,7373.
Егор кивнул: есть, мол.
— Отвечай.
— 0009,0009,0009, — отстучал Дорин позывные Карпенки.
А Вассер уже подсовывала ему бумагу — записывать шифрограмму из Центра.
Выводя карандашом колонки семизначных цифр. Егор мысленно проговаривал их, пытался запомнить. Сам всё время следил краем глаза: вдруг она расслабится, наклонится над столом, чтобы лучше видеть, как он пишет. Воткнуть гадюке карандаш в глаз, насколько войдет. И, пока не очухалась от болевого шока, вышибить из нее душу. Не насмерть, конечно, — до потери сознания.
Когда сеанс закончился, Вассер забрала бумажку, дала Егору булку. Едва сунул в рот последний кусок — опять залепила рот. Тычками погнала к кровати, заставила лечь.
Пристегнула руки, потом ноги.
Сняла пластырь.
Погасила свет.
Вышла.
Егор снова остался в темноте один, на много часов.
И началась жизнь, которую невозможно было назвать жизнью. В ней не было дня и ночи, лишь мрак, перемежаемый редкими вспышками электрического света — когда узника навещала тюремщица
Время утратило равномерность, оно двигалось рывками. Многочасовое ожидание сливалось в единую бесконечную паузу, где не было ничего кроме скрипа кровати, мысленных разговоров с самим собой да муторных полуснов-полувидений. Из происшествий — лишь поворот со спины на бок и обратно.
Но стоило ключу заскрежетать в дверной скважине, и мир преображался. Он наполнялся ослепительным светом и звуками, которые после долгой тишины казались Егору оглушительными. Время, судорожно встрепенувшись, пускалось вскачь, наверстывало упущенное.
Сеансы связи происходили не каждый день. Чаще всего Вассер просто давала пленнику поесть, попить, оправиться, немного размяться и, не произнеся ни слова, удалялась. Какие-нибудь четверть часа — и он снова оставался один, прикованным к своей ненавистной койке.
Поэтому, когда Вассер, накормив его очередной булкой, пододвигала передатчик, у Егора против воли радостно сжималось сердце. Лишние десять минут света и движения! Новая порция цифр для заучивания — а это означало, что будет чем себя занять во время ожидания: повторять текст десятки, сотни раз.
Ну и кроме того, всякий раз, когда радист принимал или отправлял шифрограмму, ему полагалась премия: кусок колбасы или сыра. В мире, в котором теперь существовал Дорин, это было очень большое событие.
Говорить с тюремщицей ему воспрещалось. Войдя, она сразу налепляла ему пластырь и снимала его только на время приема пищи. Однажды Егор успел произнести тщательно продуманную немецкую фразу: «Послушайте, нельзя так обращаться с людьми, преданными нашему общему делу». В результате остался без еды, на целые сутки.
Вассер открывала рот редко, исключительно во время сеансов: «Позывные. Есть? Принимай. Отправь вот это» — и все Говорила всегда по-русски. Должно быть, считала унтерменша недостойным внимать языку своего Фюрера.
Для нее Егор был не человек, а голая функция: уши, да пальцы на ключе. Она же, хотел он того или нет, заняла в кошмаре, из которого теперь состояла его жизнь, место Главного Персонажа. Даже единственного. Выражение ее лица, мимика, интонация — всё имело для него огромное значение. Какой хлеб она принесла — белый или черный? Что за бутылка у нее в сумке — с кефиром или с молоком? Зачем она посмотрела на рацию — просто так или будет сеанс связи?
Самое противное было то, что Егор понемногу приспосабливался к подвальному существованию.
Первым приноровилось брюхо. Желудок научился угадывать время кормежки, и примерно за полчаса до появления Вассер начинал исходить соком.
Потом сориентировались мочевой пузырь и кишечник. Они больше не терзали Егора бесплодными позывами, а давали о себе знать сразу после того, как просыпался желудок.
Затекшее тело ждало прихода Вассер, дрожа oт нетерпения: сейчас можно будет расправить руки, сесть, сделать несколько шагов.
Отвратительней всего, что и сердце откликалось на лязг двери радостной барабанной дробью.
Вот что фашистские сволочи хотят сделать со всеми нами, скрежетал зубами лейтенант. Превратить в голую функцию, в рабочую скотину, в свиней, которые радостно хрюкают перед кормежкой
Я уже не человек, я собака Павлова. Зажигается лампочка, и у меня сразу изо рта текут слюни.
От тяжелой, удушающей ненависти у Егора сводило кулаки. Ах, что бы он сделал с этой гадиной, если б не связанные руки. Или пускай связанные, только бы она хоть раз подставилась, чтоб можно было врезать ей снизу вверх, в подбородок. Или сбоку, в висок. Он вложил бы в этот удар всю свою силу, всю ярость!
Но проклятая шпионка была опытной дрессировщицей. Всё время настороже, всё время на расстоянии вытянутой руки. Сколько раз, ковыляя стреноженным к столу, Егор прикидывал: если резко развернуться, достанет он ее или нет? Получалось, что вряд ли. Когда садился, она сокращала дистанцию, но сидя разве размахнешься?
Да и сил с каждым днем оставалось всё меньше.
От скудной еды, от неподвижности, от духоты Егор стремительно слабел. Теперь, поднимаясь с кровати на ноги, он с трудом удерживал равновесие — от резкого движения перед глазами вспыхивали круги. Прыгать по полу он перестал, вместо этого мелко переступал. Не только из-за слабости, но и потому, что брюки на нем висели мешком, прыгнешь — свалятся. Ворочался на койке гораздо чаще, чем вначале. Это оттого, что выпирали кости.
Через какое-то время (счет дням Егор потерял быстро, потому что дней как таковых в его жизни больше не было) из темноты полезла уже не мелкая чертовщина, а самые настоящие, добротные галлюцинации. В основном, конечно, неприятные.
Ознакомительная версия.