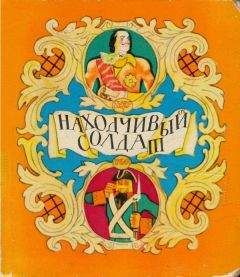Он снова пожал плечами и тут же забыл о том загадочном капитан–лейтенанте. Мог ли он знать тогда, что пройдет еще какое–то время и капитан–лейтенант Василий Мещеряк прочно, на долгие годы, войдет в его жизнь?
Соседка пыталась всучить ему банку варенья, но он наотрез отказался. Некогда будет ему гонять чаи. А ей варенье еще пригодится. Тогда соседка притянула его голову к себе, поцеловала в лоб и, всхлипнув, оттолкнула.
Он прогрохотал по лестнице. У него еще было много времени. Зайти к знакомым? Попытаться разыскать прежних друзей? Но все его друзья были в армии. Тогда, быть может, просто побродить по городу? Он ведь так давно не был в Одессе!.. С минуту он простоял в нерешительности, а потом невесело подмигнул однорукой Венере. Его потянуло в отряд. Там теперь его дом, его друзья… И так будет до конца войны.
Чего греха таить, он думал тогда, что конец войны не за горами. Ему было двадцать лет и ему казалось, что убить могут кого угодно, но только не его. Тогда он был еще уверен в своем бессмертии.
Отряд выступил утром, на рассвете. Над колонной колыхались штыки. Тылы? Обозы? Каждый сам себе интендант. Скатка, противогаз, фляга, малая саперная лопатка — все про тебе. У кого винтовка, а у кого и «дегтярь», к которому полагается десять полных дисков. Есть и по три гранаты «лимонки» на брата, чего еще желать?
— Персональные танки вам вручат уже на передовой, — сказал Гасовский.
— Мне бы лучше какое–нибудь орудие в личное пользование, товарищ лейтенант, — в тон ему сказал Костя Арабаджи.
— Надеюсь, командование учтет вашу просьбу, — усмехнулся Гасовский.
Белый щебень дороги вел в степные разлоги, кустарники и бурьяны. Земля вокруг была старой, сухой, в репьях и трещинах. Над ее окаменевшей рябью плавилось небо, и степные балки наливались тяжелым зноем.
Во рту Нечаева было горячо.
Он знал, что море где–то справа, но глаз туда не доставал, а слабый ток воздуха с той стороны не приносил его веселого соленого запаха, и Нечаеву, шагавшему по пыльной дороге, с каждой минутой все меньше верилось, что море есть на самом деле и что где–то сияет и рябит его прохладная синева. На зубах у Нечаева скрипел песок.
Зато тяжелый слитный гул фронта становился все ближе и громче. Отряд шел ему навстречу широким и свободным матросским шагом и еще до полудня уперся в огненную стену, стоявшую над суходолом.
Там стонало и плавилось железо.
Прошла неделя. Отряд морских пехотинцев не выходил из боя. Мало–помалу люди обжились, попривыкали к окопному быту с его ежедневными атаками, контратаками и ожиданием новых атак, с минометным обстрелом, наглым режущим светом ракет, с шальными пулями, залетавшими бог весть откуда, с котелками упревшей каши, винным довольствием, теплым домашним шорохом мышей в соломе и едким химическим запахом отстрелянных гильз. Их руки и лица огрубели, стали шершавыми, темными, а глаза выели бессонные ночи и дым. После этой недели, проведенной в окопах переднего края, их уже ничем нельзя было удивить. Ведь эта педеля складывалась из дней, часов, минут и секунд войны.
Сухую землю, усеянную осколками железа и пропитанную кровью, жгло беспощадное солнце.
Но иногда на передовую, на горькотравье, падала пустая тишина. Тяжелая, неподвижная, она закладывала уши и камнем ложилась на сердце. Так проходил час, другой… И вдруг тишина взрывалась, небо полнилось скрежетом, грохотом, стоном и гулом, который низким степным громом катился по жнивью и бурьянам. И тогда за этим громом поднимались цепи солдат в едко–зеленых мундирах.
Первыми обычно шли «шарманщики», поливавшие землю автоматным огнем. За ними, подгоняемые офицерами, вываливались из поредевших, иссеченных пулями зарослей кукурузы обросшие солдаты с винтовками. По спинам их оглушительно били трубы военных оркестров.
Так начиналось утро.
Степь была рыжей, и небо тоже рыжело, а воздух, жидко струясь над окопами, мутно пламенел. Август был сухой. Солнце стояло высоко, без лучей, без блеска. И дышалось трудно, устало.
Но на Костю Арабаджи жара совсем не действовала.
— Жить можно, — говорил он, перекатывая папиросу из угла в угол запекшегося рта.
— Определенно, — поддерживал его Сеня–Сенечка.
С ними молча соглашались: жить можно. Вот только воды было в обрез. Росу, которая по утрам стеклянно дрожала на горьких листочках полыни, и то приходилось собирать в котелки. Но много ли насобираешь таким манером? Вот и раненые румыны, оставшиеся лежать на поле боя, постоянно канючат: вапа! вапа!..
— Воды просят, — объяснил как–то Гасовский.
— А вы и по–ихнему умеете? — удивился Костя Арабаджи.
— Что же тут особенного? Я, мой юный друг, из города Тирасполя, в театре работал. Ты что, не знал?
— Артистом?
— Разве не видно?.. — вопросом на вопрос ответил Гасовский.
— Видно, — поспешил согласиться Костя Арабаджи.
Он знал, что Гасовский до поступления в военно–морское училище некоторое время работал в театре, но был не артистом, а рабочим сцепы. Но он шал также и то, что с Гасовским лучше не связываться. Так отбреет, что своих не узнаешь. Словом, лучше помалкивать. Костя, который не боялся ни бога, ни черта, задирать лейтенанта не рисковал. Даже больше того, Гасовскому он завидовал. Не его лейтенантскому званию, нет. И не тому, что Гасовский не лез за словом в карман. Костя сам был парень не промах. Но до Гасовского ему было далеко, он понимал это.
Лейтенант и в окопах как–то умудрялся выглядеть щеголем с Приморского бульвара. На кителе — ни травинки, на брюках — рубчики. И козырек фуражки не потерял своего былого лакированного великолепия. Красив, ничего не скажешь. Артист!.. Под его насмешливым взглядом Костя поспешно опускал глаза, тушевался. «Вы, кажется, изволили что–то заметить, мой юный друг?..» Что на это скажешь?..
Только когда Гасовского рядом не было, Костя мог развернуться.
— Обидно, — заявил он с легким вздохом. — Я, можно сказать, Одессу–маму и не видел. Где же справедливость, я вас спрашиваю? Одесситу Белкину дали увольнительную, а мне — нет. Лейтенанту даже не пришло в его кудрявую голову, что я тоже интересуюсь. Чем? А хотя бы достопримечательностями. Я даже путеводитель приобрел.
Он подмигнул Сене–Сенечке, и тот подтвердил:
— Точно.
— Где же справедливость? — Костя повернулся к Якову Белкину. — Нет, ты скажи…
Яков Белкин сидел, поджав колени к подбородку. Из–под его широченного клеша выглядывали ботинки сорок пятого размера. Он молчал.
Но от Кости не так просто было отделаться.
— Вот ты одессит, — не унимался Костя. — Ходил небось во Дворец моряков. А знаешь ли ты, кто этот шикарный дворец построил на радость всему человечеству? Архитектор Боффо, вот кто. А сколько ступенек имеет знаменитейшая Потемкинская лестница, ты можешь сказать? То–то…
— Я не считал. Отвяжись…
— Ровно сто девяносто две ступени, шоб я так жил, — торжествующе произнес Костя, — Эх ты, одессит…
— Одессит, не то что ты. Я на Молдаванке родился, — ответил Белкин.
— А ты, Нечай?
Нечаев вздрогнул. Он думал о другом. Из головы у него не шел рассказ соседки. Кто он, этот моряк с нашивками, который о нем справлялся? «Петр Нечаев, спортсмен…» Но сам Нечаев не считал себя спортсменом. Плавал, как все ребята. Только, быть может, чуточку быстрее. И брассом, и стилем баттерфляй. Но до мирового рекордсмена Семена Бойченко ему было далеко. В Севастополе Бойченко обставил его метров на десять. Но этому капитан–лейтенанту нужен был почему–то не просто Нечаев, а Нечаев–спортсмен. Зачем? Уж не собирается ли он устраивать заплывы на дальние дистанции. И это во время войны!..
— Я ужасно интересуюсь Старопортофранковской, — сказал Костя. — Нечай, ты знаешь такую улицу?
— Ты бы еще спросил, знаю ли я Лютеранский переулок, Конный рынок или памятник дюку Ришелье, — усмехнулся Нечаев.
— Вот это ответ! — сказал Костя. — Ты слышал, Яков? А ты… — И прежде чем Яков Белкин успел открыть рот, Костя пропел:
Как на Дерибасовской, угол Ришельевской…
И тут Якова Белкина прорвало. Он заговорил, медленно перетирая слова своими каменными скулами, как жерновами:
— Значит, так. Потопал я домой, на Дальницкую…
Белкин смотрел поверх бруствера, словно там, впереди, была его родная Дальницкая и он видел ее всю — горбатую, мощенную булыжником, по которому цокают, высекая искры, копыта тяжелых битюгов, и свой дом, и двор с водопроводной колонкой, и деревянную лестницу на второй этаж, и комнаты в блекло–вишневых обоях с бордюром, на котором резвится великое множество шишкинских медвежат. В комнаты можно было попасть только через кухню, а там с утра и до ночи ворочала черные чугунки его мать. «Яшенька! — произнесла она и уронила руки. — Сыночек…» Все это он видел как наяву.