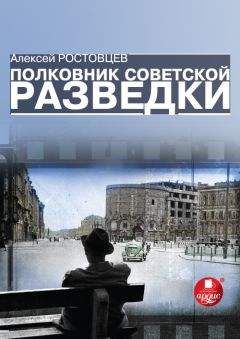– Вот это девка! – восторженно обронил кто-то.
Тут на Анюту и положил глаз, проезжавший мимо на ленд-лизовском [27] джипе начальник дивизионного «Смерша» майор Круглов, сумрачный седой человек, ни разу не замеченный доселе в слабости к прекрасному полу.
Круглов потерял семью в первый день войны на границе. Из близких у него не осталось никого, кроме матери, которой он и переводил деньги по аттестату. К немцам майор относился с суровой беспощадностью, а разоблаченных агентов абвера и фашистских пособников казнил собственноручно.
На войне события развиваются стремительно, как в ускоренной съемке. Через трое суток после знакомства с Анютой Круглов забрал ее к себе в дом, ни у кого не опрашивая на то разрешения. Институт полевых жен был почти узаконен. Каждый командир, начиная с полкового уровня, при желании мог обзавестись такой женой из числа военврачих, медсестер, связисток и переводчиц. Даже Верховный смотрел на это сквозь пальцы. Когда Берия доложил однажды Сталину о том, что один из маршалов явочным порядком увел у знаменитого писателя жену, не менее знаменитую актрису и очень красивую женщину, Главнокомандующий сделал раздраженный жест рукой, отмахиваясь от всемогущего начальника охранки, как от назойливой мухи. Берия его не понял и спросил, что делать с нашкодившим полководцем.
– Что делать, что делать? – ухмыльнулся Сталин. – Завидовать!
Круглов Анюту баловал и многое ей позволял. В свободное время она шлялась по расположению части, где дислоцировался его отдел «Смерша», кокетничая с кобеляжничавшими вокруг нее молодыми офицерами, которых держала, однако на расстоянии вытянутой руки, ездила на работу в его служебном джипе, выменивала у спекулянтов на продукты белье и косметику. Анюта платила майору заботой и лаской. Она была аккуратна, чистоплотна, хорошо готовила и очень рачительно вела их несложное хозяйство. Скромную комнату Круглова в домике вдовой старушки Серафимы Егоровны Клочковой она в одночасье превратила в уютное семейное гнездышко. Начальник «Смерша» к великой радости подчиненных стал уходить со службы пораньше, подобрел, помягчел. Дома, в обществе Анюты, он расслаблялся, становился веселым, шутил. Хлопоча вокруг него, она без умолку щебетала, рассказывая о красотах Одессы, о великолепной опере, о своем институте и проделках студентов, о морских прогулках на катере и о запахе свежей кефали в порту. В его Камышине не было ничего, кроме Волги да арбузов, поэтому он больше помалкивал, исподволь любуясь красивой ладной молодой женщиной, благоухавшей тонкими трофейными духами, и лишь изредка подшучивал над ее одесским жаргоном и легким подкартавливанием.
– Ну и что? – говорила она. – Мне с таким природным «р» было легче осваивать немецкий язык. А мои сокурсники в большинстве своем так и не научились правильно произносить этот звук.
Женюсь на ней, думал Круглов, вот закончится война, и начну жизнь с чистого листа. Детишек заведем. Я не такой уж старый, а здоровьем и силой Бог меня не обидел. Главное до победы дожить.
Иногда майор использовал Анюту как переводчицу при допросах военнопленных. Она умела подойти к немцам, и даже самые ершистые из них в ее присутствии оттаивали и кололись, будто свою в ней чувствовали. Круглов давно оформил бы Анюту переводчицей, однако в таком случае ее надлежало сначала проверить по прежнему месту жительства, а сделать это было весьма сложно, так как Одесса пребывала пока под пятой оккупанта.
Одно не нравилось Круглову: в постели Анюта всякий раз вела себя как здоровая тридцатилетняя баба, просидевшая полгода в камере-одиночке и дорвавшаяся наконец-таки до мужика. Это разнузданное бесстыдство его шокировало. Конечно, рассуждал он про себя, Одесса – не Камышин. Международный порт, почти Европа. Нравы там совсем другие, но все же хотелось бы иметь жену поцеломудренней. Насытившись любовью, Анюта мгновенно засыпала, и тогда Круглов подолгу с нежным умилением разглядывал ее розовое фарфоровое личико, не искаженное более гримаской страсти, а по-детски чистое, умиротворенное. Взгляд его скользил по беспорядочно разметавшимся белокурым кудряшкам, густым пушистым ресницам, полуоткрытым алым губкам, нежной шее и неизменно останавливался на двух безупречной формы округлых холмиках, полуприкрытых кружевами комбинашки. Иногда он осторожно отодвигал кружева и целовал то место под левым соском, где едва заметно подергивалась кожа: там билось Анютино сердце.
Конец их счастью наступил в мае. Причиной этой катастрофы явилась одна особенность женской природы: женщина в двух случаях может совершенно бессознательно обронить одно слово или пару слов на родном языке: когда рожает и на пике любовного экстаза. Вот и Анюта в соответствующий момент обронила однажды четыре слова на немецком языке: «Ich habe dich gern». Круглов со школьной скамьи знал каждое из этих слов в отдельности, но ему было неведомо, что они значат, будучи уложенными в одну фразу. Об этом он и спросил переводчицу из штаба дивизии.
– Это то же самое, что «Ich liebe dich», – безмятежно ответила девушка.
– Почему же мы не учили такого в школе?
– Тот немецкий, которому учат в наших школах, и тот немецкий, на котором говорят немцы, – две совершенно разные вещи.
Тот язык, на котором говорят немцы! И тут Круглов вспомнил, что в Одессе до войны была большая немецкая колония со своими школами; библиотекой и огромным собором, домой он пришел хмурым. В это время началась первая весенняя гроза, и Анюта вздрогнула, испуганная раскатами грома.
– Перекрестись! – повелительно сказал он.
– Я неверующая, – отшутилась она.
Я тоже неверующий, подумал Круглов, а вот креститься по-православному умею.
На другой день он изготовил в своем служебном кабинете несколько липовых документов с грифом «секретно», положил бумаги в папку, а папку после обеда «забыл» на столе в их комнате. Между листами спрятал волосок. Уехал, а через полчаса вернулся за «забытой» папкой. Анюта сидела у трельяжа и чистила перышки. Именно за этим занятием он оставил ее, когда уходил. В машине открыл папку и похолодел: волосок исчез. Значит, она читала документы! Круглов пытался успокоить себя: может быть, это простое женское любопытство? А может быть, ревность? Искала воображаемые письма от другой женщины? Чушь собачья! Ну что ж, устрою ей еще одну проверку.
Вечером Анюта объявила Круглову, что у них будет ребенок. Врет, думал он, целуя ее. Почуяла неладное и врет. А если правда? Он пошел к хозяйке дома бабушке Клочковой, сунул ей в руки пачку рафинада и попросил, краснея, как мальчишка:
– Ты, Егоровна, посмотри завтра утром, куда моя пойдет. Не будет ли встречаться с кем?
– Ревнуешь? – понимающе осведомилась старуха.
– Ревную, ой как ревную! Старый я, а она молодая. Сдается мне, что хахаля завела.
– Это ты правильно придумал. Нашей сестре доверять никак нельзя. Дело житейское. Все исполню в лучшем виде.
– Ты уж постарайся, Егоровна. Получишь еще банку тушенки.
Бабка рассыпалась в благодарностях.
Поздним вечером, перед тем как лечь в постель. Круглов сказал Анюте, лаская ее волосы:
– Выслушай меня внимательно, девочка. Ровно через неделю начнется наше большое наступление. Наша дивизия – на острие прорыва. Пойдем через непролазные топи. Потери будут большие. Поэтому мой тебе приказ: собирай вещички и поезжай к моей матери в Камышин. Там жди конца войны. Он не за горами. Родишь – мать тебе поможет. Деньги буду высылать. Вернусь с фронта – поженимся.
– Наши Одессу взяли, – робко возникла Анюта.
– Приказ обсуждению не подлежит, – отрубил Круглов.
Анюта понимающе кивнула, тесно прижалась к нему и всхлипнула.
Утром следующего дня Круглов, как обычно, отправился к восьми на службу, но через три часа вернулся. Он знал, что Анюты нет дома: у нее было дежурство в госпитале. Егоровна четко доложила ему о выполнении задания:
– Все у тебя в порядке, сынок. Ни с кем не встречалась, ходила на базар, ничего не купила, вернулась, ушла в госпиталь. Так что спи спокойно.
– Может, останавливалась где?
– Останавливалась. У березки, что возле почты. Постояла, дотронулась до дерева рукой, вроде как попрощалась с ним, и пошла дальше.
– Спасибо тебе, Егоровна! Век не забуду. Держи тушенку!
Он осмотрел березу. На белой коре увидел крестик, нарисованный губной помадой. Требует срочной встречи, сообразил Круглов. Он спросил у часового, стоявшего около их крыльца, не приходил ли кто-нибудь к Анюте.
– Никто не приходил. Вот только придурок этот. Ну, глухонемой – Митя. Анна Сергеевна вынесла ему покушать. А так – больше никто.
Митя и раньше к ним наведывался. Анюта давала ему поесть и дарила кое-какие его, Круглова, обноски.
– Давно он был тут?
– Да с полчаса уж миновало.
– Куда направился?
– Туда.
Круглов отпустил солдата-водителя, забрал у него автомат ППШ, сел за руль джипа и дал газ. Он перехватил Митю за околицей у леса и бил его до тех пор, пока глухонемой не заговорил, причем с сильным прибалтийским акцентом. Тогда Круглов ударил его ногой в пах, после чего Митя, корчась на траве, вытащил из потайного кармашка штанов листок, исписанный столбцами пятизначных цифр, а также назвал имя и адрес радиста. Круглов застрелил связника, а труп утопил в болоте, привязав к его ногам трак от танковой гусеницы, ржавевший без дела в придорожной пыли.