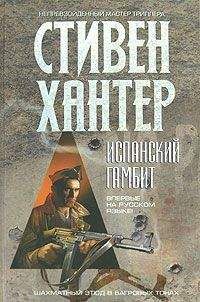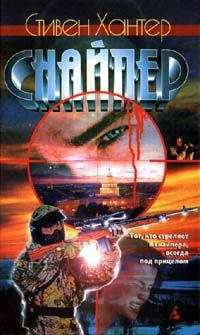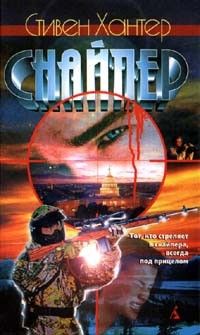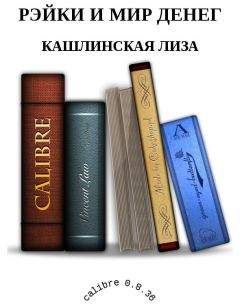– ¿No era fascista?[136]
– Что вы, нет, конечно. Разве я похож на фашиста?
– Espero que se divirtiera en su viaje.[137]
– А? Не понял.
– Я надеюсь, что вы приятно провели отпуск в Испании, синьор Трент, – повторил шпик по-английски и прошел дальше.
Флорри пригубил вина, притворяясь спокойным. Но в бокале по поверхности разбегалась небольшая рябь от дрожания его руки. Это вино определенно горчило.
Он потянулся за сигаретой, закурил.
– Это был последний испанский осмотр, – подумал он вслух, – наверное, граница уже совсем рядом.
– Почему он осматривал твою ладонь?
– Винтовка Мосина – Нагана имеет довольно острую рукоять затвора. Когда много стреляешь, то набиваешь мозоль на ладони или по крайней мере затвердевает кожа на этом месте.
– Как я рада, что у тебя этого нет.
– А как я рад, что эта мозоль отвалилась вчера вечером, когда я принимал ванну.
– Очень надеюсь, что наши неприятности остались позади.
«Да, похоже, ты права», – подумал он.
Но странное чувство владело им, то неуютное беспокойство, которое возникает обычно от упорного чужого взгляда.
– Тебе холодно?
– Нет, что ты, – ответил он удивленно.
– Ты так странно дрожишь.
Правый глаз спасти не удалось, он погиб тогда, в конюшне, когда эти озверевшие кони лягали и топтали его. Хирургу пришлось удалить глаз, когда он соединял проволокой осколки треснувшей скуловой кости. Левый уцелел, хоть его хрусталик сместился. Теперь старик мог лишь разглядеть движущуюся ладонь руки, но, например, не мог сосчитать на ней пальцы.
Плечевые кости, конечно, были поломаны, когда он висел на веревке, также и кости запястий. Помимо этого, он был сильно избит, раны и синяки покрывали все его старческое тело.
Но самым сильным был психологический шок. Воспоминания путались и пропадали. Он был чрезвычайно возбудим, совершенно не мог ни на чем сосредоточиться. Забыл, что такое спокойное состояние, его измучили ночные кошмары. Мог без всякой причины разрыдаться. Часто случались резкие смены настроения.
И он полностью лишился дара речи.
Сейчас он лежал – в бинтах и гипсовых повязках – в палате на одного человека госпиталя народной победы, бывшей больницы Святых Креусы и Пау на проспекте Сталина. Комната казалась большой и светлой, одна из дверей вела на балкон, с которого открывался почти безграничный вид. Левицкий мог только догадываться, что было видно с балкона. Море, должно быть. Он ощущал дуновение морского бриза.
Он лежал в одиночестве – можно было бы сказать, наедине с историей – и наслаждался прохладой и прелестью послеобеденного часа. Доктор вошел к нему, как обычно, в четыре, но, и это уже не было обычным, в сопровождении второго человека. Левицкий, конечно, не видел ни одного из них, но ясно отличал незнакомый звук шагов – быстрых, четких, чрезвычайно энергичных, даже нетерпеливых – от скупо-размеренной походки врача.
– Ну-с, товарищ Левицкий, – с профессиональной приветливостью заговорил доктор на русском языке, – вы, оказывается, стреляный воробей.
Левицкий почувствовал, что доктор наклоняется над ним, и даже смутно видел его силуэт.
– Любой человек вашего возраста не выдержал бы подобных испытаний. Господи, пробыть столько времени в том аду, среди разъяренных лошадей… Да девятнадцать человек из двадцати скончались бы прямо на операционном столе.
Левицкий знал, что последует за этими словами, – и точно, вспышка боли пронзила его уцелевший глаз. Секундой позже доктор щелкнул выключателем медицинского фонарика. Но конвульсия боли, вызванной резким светом, еще долго отзывалась в голове Левицкого.
– Его состояние стабильно? – Голос второго вошедшего в палату был моложе и жестче.
– Да, комиссар. Теперь стабильно.
– Через какое время он будет транспортабелен?
– Недели через две. Но лучше через месяц.
– Вы уверены в этом, доктор?
– Вполне. Не годится совершать такого рода ошибки.
– Хорошо. Значит, месяц.
– Договорились.
– Да. Теперь оставьте нас.
– Имейте в виду, он еще очень слаб, комиссар.
– Я не буду волновать его.
Левицкий услышал, как доктор выходит из комнаты. Какое-то время прошло в молчании. Напряженно вслушиваясь, Левицкий различал дыхание этого второго. Он устремил взгляд своего единственного глаза в молочно-мутное пятно потолка.
Наконец посетитель заговорил.
– Ну, уважаемый Эммануэль Иванович, ваши друзья со Знаменской шлют вам привет. Вы стали важной птицей. «Надо сделать все возможное, чтобы спасти такого человека», – приказали они мне. Но простите, я забыл представиться. Павел Валентинович Романов, Главное разведывательное управление. Капитан-лейтенант. Хотя, не скрою, я молод для такого чина.
Он сделал паузу, ожидая ответа. Левицкий молчал, и молодой человек продолжил:
– Вы, может быть, скажете, что моя гордость меня погубит. И будете правы. – Он сочно рассмеялся. – Что потешит гордость вашу.
Левицкий продолжал хранить молчание.
– Итак, мне известно о вас все, в то время как вы почти ничего не знаете обо мне. Но я не стану утомлять вас, сообщая полный список моих достижений. Могу только сказать, – при этих словах в речь молодого человека вкрались жесткие нотки, – что если вы – прошлое нашей партии, то я – ее будущее.
Он с важностью прошелся по комнате и направился к окну. Левицкий проводил взглядом неясный силуэт. Всего лишь темное расплывчатое пятно на белом фоне пространства.
– Прекрасный вид! Эта гора – само величие. Конечно, не так красива, как наш Кавказ, но тем не менее прекрасна. Прямо мурашки бегут по спине, Эммануэль Иванович. А своей палатой вы довольны? Здесь удобно? Лучшая в этом госпитале. Вы знаете, кто этот доктор? Московская знаменитость, стажировался в Лондоне. Никакой вшивой советской медицины для такого человека, как наш дорогой Эммануэль Иванович Левицкий. Нет! Не для того мы сражались! Только лучшие западные светила!
Капитан-лейтенант снова рассмеялся.
– Ну что ж, Иваныч, – обратился он к Левицкому с той интимностью, которая обычна лишь для членов одной семьи, – мне пора. Но я завтра же вернусь и буду приходить каждый день, пока вы не поправитесь. И не наберетесь сил для далекого путешествия. Я буду присматривать за вами, как за ребенком, и заботиться о вас, как о матери.
Левицкий, разъяренный, мог только молчать и смотреть на него единственным глазом.
– Почему, может быть, спросите вы? – улыбался Романов. – Потому, что получил приказ от самого Хозяина. Старый ваш соратник по революции, товарищ Коба лично интересовался этим делом. Я, можно сказать, персонально представляю его здесь. Коба хочет видеть вас в Москве здоровым и невредимым. На родной земле матушки-России.
Он ниже склонился над стариком и закончил мысль, прежде чем выйти из палаты:
– Чтобы казнить вас.
Уже смеркалось, когда поезд стал приближаться к залитому неярким светом угасающего дня приморскому городишке, в тиши и безлюдье спускавшемуся к морю. Флорри, прильнув к вагонному окну, следил за тем, как они подъезжали к небольшому станционному домику, расположенному чуть повыше городка. Полустершаяся надпись гласила: «Порт-Боу».
– Господи, даже не верится, что мы наконец-то добрались, – с внезапным приливом волнения произнес Флорри. – Сильвия, посмотри сюда, тебе прежде встречалось что-нибудь, что было бы настолько обветшалым, но так радовало взгляд?
Поезд остановился у перрона, и Флорри встал и потянулся за саквояжем, лежавшим в сетке над головой. Через несколько минут они уже выходили из вагона, присоединившись к толпе других пассажиров. Ступив на землю, Флорри глубоко втянул в себя соленый морской воздух, прислушался к крикам птиц, парящих над головами, глянул вперед и увидел, что дорога, по которой они шли, упирается в бетонный барьер, за которым виднелся забор из колючей проволоки. За ним была Франция.
– Смотри, видишь, там стоит поезд? – Он указал туда, куда, минуя ряды колючей проволоки, убегала дорога. – Это, должно быть, ночной на Париж.
– Тебе нужно будет заказать для нас купе, – сказала Сильвия. – Мы путешествуем как муж и жена, странно было бы разместиться порознь.
– По-моему, ты слишком много думаешь о маскировке.
– Знаешь ли, я всего лишь хочу выжить. Вот и все.
– Но теперь путешествовать вместе вовсе не обязательно. Испания осталась позади. Теперь можно ехать отдельно друг от друга.
– Давай уж будем до Лондона поддерживать соответствие образу.
Он не мог не рассмеяться.
– Ты, кажется, больше знаешь о таких делах, чем я.
Вместе с другими пассажирами они подошли к пропускному пункту, маленькому кирпичному домишке, около которого угнездилась рассчитанная на пешеходов калитка, – все сооружение, включая ряды проволоки, имело неопрятный вид временного сооружения. Уже выстроилась очередь, и люди по одному просачивались через калитку. Происходящее казалось освещенной холодной луной Средиземноморья немой сценой из какой-нибудь пьесы. Очередь безмолвно ползла под сонными взглядами карабинеров – никаких революционных асалтос здесь не было и в помине – и исчезала в домишке, где проводился беглый опрос. Если при вас имелся паспорт, все было в порядке.