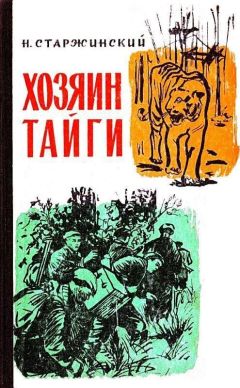3
Весь день прошел в напряженных сборах. Каждому нашлась работа. Выверяли и ремонтировали инструменты, закупали провизию. Петр после долгих поисков по всей деревне достал железную печь для палатки. Только вечером землемер решил выполнить задуманное.
Изба Гжибы стояла у самой реки, на отлете. Кандауров постучал, прислушался, затем толкнул неподатливую дверь.
— Здравствуйте, хозяева, — сказал он, переступая порог.
В избе было сумеречно. У окна сидел тот самый бородатый охотник. Он шил рубаху, не поднимая головы и не обращая на землемера ни малейшего внимания (словно бы это не человек вошел, а муха влетела в избу).
— Вы нужны мне, Гжиба, — сказал землемер громко, как глухому. — Вы меня слышите?
— Слышу, отчего же не слышать, — сказал Гжиба, не глядя на него. Он наклонил голову, чтобы перекусить нитку. — Зачем пожаловал, рыболов? — проворчал он, осматривая на свет рубаху. И, не дав Кандаурову ответить, продолжал: — Видел рубаху? Бабе так не сшить.
— Что же, отдать некому?
— Выходит, что некому. Испортят, сузят, где не надо, а я широко люблю.
Гжиба помолчал.
— Садись, раз пришел, — произнес он наконец.
Охотник отложил работу и впервые взглянул на землемера. Кого угодно могла поразить та насупленная и неотразимая сила, что заложена была во взгляде охотника.
Кандауров начал рассказывать, зачем он пришел.
— Садись, говорю, — повторил Гжиба повелительно, и землемер сел. — Что же, в работники я гожусь, — прогудел Гжиба, выслушав землемера, — но сосунков, признаться, не люблю.
— Ты это о ком? — спросил, посмеиваясь, Кандауров. Он даже подсел ближе, чтобы лучше видеть хозяин»
— Давай потолкуем, — продолжал Гжиба внушительно. — Тайгу знаешь?
Гжиба задавал вопросы о повадках зверей, об особенностях таежной жизни. Редкий случай: рабочий экзаменовал землемера, поступая к нему в отряд. Но Кандауров с улыбкой отвечал на вопросы.
— Поработаешь у нас, присмотришься, сам решишь: плохого мы желаем тайге и людям таежным или о них же заботимся, — заметил землемер.
— Ладно, — сказал охотник, — уж, видно, придется согласиться. А только помни: нанимаюсь я в работники, а не в няньки. И еще одно… — Гжиба медлил, подозрительно посматривая на Кандаурова.
— Смелее говори! — посоветовал землемер.
— С проверкой к вам иду. Согласен?
— Ну, полно! Какая там проверка. Я вижу, ты нам подойдешь.
Гжиба нахмурился, обжег землемера взглядом.
— Я-то подойду, опору нет, не об том хлопочу. Рот вы подойдете ли?
— Значит, ты нас будешь проверять? — улыбнулся землемер. — А иначе я не согласен. — Гжиба снова с решительным видом взялся за рубашку. — Не хочешь — не надо.
— Ладно. Договорились, — сказал отрывисто землемер. — Испытаем друг друга. Мне нужны такие веселые, смелые люди.
Я весе-елый, — согласился Гжиба, мрачно усмехаясь. — От меня народ прямо в пляс идет, до того веселый.
Кандауров, улыбаясь, вышел из избы.
— Погоди смеяться-то, — услышал он уже за порогом.
Поздно вечером к землемеру постучался Ли-Фу. Он держал за руку Настю. Поздоровавшись и не садясь на предложенный землемером стул, Василий Иванович взволнованно заговорил:
— Смотри, какой хороший девочка! Его послушный, смирный. — Ли-Фу погладил Настю по голове.
— Да, да, я знаю, — вмешался Миша. — Это его дочка. Она тоже ухаживала за мной, когда я болел. Чего же ты хочешь, Ли-Фу?
— Его мама нету, его бедный сирота, — продолжал дунган, вздыхая и покачивая головой. — Моя тайга ходи, промышляй надо, его деревня оставляй. Чужой люди кругом. Моя сердце болит.
Из дальнейших сбивчивых объяснений Ли-Фу выяснилось, что он уходит в тайгу на промысел и ему не с кем оставить Настю. С собой взять нельзя, измучится он с ней, в деревне же народ грубоватый, а она обидчива: чуть что — убегает в тайгу и живет там, питаясь чем придется, недели по две, по три.
— Моя сердце болит, — повторил дунган, прикладывая руку к груди. — Возьми девочка отряд, пока моя тайга ходи. Его тебе кашу вари, помогай мала-мала. Тебе — добрый люди. Обижай девочка нету.
— Ну, что ты, Василий Иванович! — сказал землемер. — Мы не можем этого сделать. Она у тебя еще маленькая и стеснит нас, да и вообще непорядок это…
— Твоя не думай, — забеспокоился Ли-Фу, — его деньга плати не надо, его просто так живи. Его харчи кушай мало, а помогай много.
— Владимир Николаевич, я тоже прошу, — вмешался Миша. — В самом деле, возьмем девочку. Ну, право же, честное слово, она нас не стеснит!
— Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь?
Миша знал, что бесполезно уговаривать землемера.
Если Кандауров что-нибудь решал, то решал бесповоротно.
Все же Миша сделал еще одну попытку уговорить его. Отозвав землемера к окну, Миша стал торопливо шептать ему на ухо, сгорая со стыда и за него и за себя:
— Ну, Владимир Николаевич, почему вы не соглашаетесь? Повторяю вам, что девочка нам не помешает. Ручаюсь за нее, как за самого себя. Вот увидите…
Миша искоса взглянул на землемера, и, видя, что лицо его так же непреклонно, нахмурился и махнул рукой.
— Я вижу, у вас нет сердца. Не хотите помочь человеку. И потом, в какое положение вы ставите меня! Денег он не берет. Как вы не понимаете! Ведь я в долгу перед ним.
Лицо землемера смягчилось. Он положил Мише руку на плечо.
— Все это понимаю, — сказал он вполголоса. — Но поможем мы твоему другу иным способом. Я устрою девочку у Пелагеи Семеновны. Она добрая женщина. Девочке будет у нее хорошо.
— Нет, все-таки это не то, — сказал разочарованно Миша и подошел к Ли-Фу, который стоял неподвижно, как изваяние, прижимая к себе Настю.
— Вот что, Василий Иванович, — проговорил практикант, выражая всем своим видом крайнее смущение. — Ты, того… не обижайся на нас. — Миша развел руками. — Что делать! Не могу тебе ничем помочь… И хотел бы, но…
Миша пожал дунгану руку, погладил Настю по голове и расстроенный вышел из комнаты.
Нужно было торопиться. Кандауров выгадывал каждый час, и потому, пустившись наутро в путь, отряд почти не останавливался для отдыха.
Миша, обогнав рабочих, шел впереди. Как чудесно было теперь в тайге! Кое-где солнце не могло пробиться сквозь густой переплет ветвей. И все же казалось, что солнечный свет проникает всюду, пронизывая насквозь деревья, кустарники, траву под ногами.
Тайга словно бы вся светилась изнутри. Это горела на ветвях деревьев оранжевая, пунцовая, кроваво-алая листва.
Впервые видел Миша такое богатство красок. Никогда не думал он прежде, что желтый и красный цвета могут иметь столько разнообразных, нежных и ярких, ласкающих взор оттенков.
Он с жадностью и любопытством присматривался ко всему, что попадалось на пути, испытывая при этом ни с чем не сравнимую острую радость жизни.
Еле угадывалась среди теснившей ее со всех сторон лесной чащи заросшая травой и мелким кустарником, засыпанная опавшими листьями и заваленная буреломам глухая таежная дорога. То взбиралась она на крутую сопку и терялась среди разлапистых елей и могучих вековых лиственниц, то спускалась в глубокую лощину, заросшую молодым дубняком, который слепил глаза своим багряным нарядом, как бы отлитым из червонного золота, то тянулась через кочковатое болото, поросшее ворчливо перешептывающимся осинником, то бежала стремглав рядом с журчащим пенистым ручьем.
Выйдя на прогалину, Миша присел, чтобы подождать отряд, оглянулся кругом, шумно вдохнул в себя острый грибной запах, шедший от подгнившего бурелома. Внимательным взглядом правел по оголившимся кое-где ветвям липы, по пламенеющему орешнику, по бурым и черным глыбам пней, прислушался к попискиванию какой-то пичуги.
«Как здесь хорошо», — думал Миша. Он всегда любил этот суровый край, в котором родился и вырос. Чувство горячей любви к родной земле наполнило Мишу.
Вершинин вздохнул и прислушался. «Но где же отряд? Давно уже пора ему подойти…»
Миша обошел кусты, окаймлявшие лужайку, и, чувствуя некоторое беспокойство, выбежал на дорогу. В тот же момент Миша заметил краем глаза какую-то мелькнувшую вдалеке тень. Юноша побежал к тому месту, но никаких следов не обнаружил. «Наверно, показалось», — подумал он и вернулся к просеке.
На песчаной почве были ясно видны свежие оттиски колес. Вот ведь как он увлекся! Отряд прошел около него, а он и не заметил. Миша усмехнулся и бросился догонять рабочих.
Заночевали в лощине на берегу небольшого озера. У рабочих уже выработалась сноровка: в один миг они натянули палатку. Фома раздал сало и хлеб. Но все настолько устали, что даже ели неохотно.