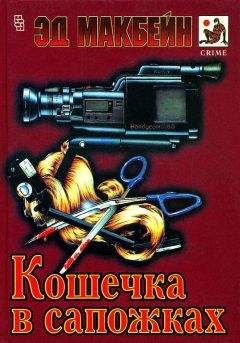— Разве? Так как же он может построить дело без…
— О, он уверен, что сможет. Но почему эти вопросы его не волнуют?
— А почему они должны его волновать?
— Они волнуют меня. Потому что именно это заставляет меня думать: а что же у него есть? Не важно, чего у него нет. Что у него есть? Почему он уверен, что может отправить Маркхэма на электрический стул? У него нет пропавшей сумочки, пропавших ключей, пропавшего фильма, пропавшей лопаты. А есть у него двое свидетелей, окровавленная одежда и нож, и он намерен обойтись этим. Почему?
— А почему бы тебе самому не спросить у него об этом?
— Он уже сказал мне, что у него есть. В ответе на мой запрос.
— А ему можно что-нибудь скрывать?
— Нет, нельзя.
— Он обязан сообщить тебе…
— Да, по закону обязан. Он не обязан сообщать мне, как намерен строить обвинение, но…
— Но он обязан сообщить, какие у него имеются улики.
— Да.
— И он сообщил тебе?
— Я обязан ему верить.
Некоторое время они молчали. Солнце уже почти скрылось.
— Мне очень хотелось бы тебе помочь, Мэтью, — ласково сказала она.
— Извини, что морочу тебе голову своими делами.
Они вновь замолчали.
— Что еще тебя беспокоит? — спросила она.
Он глубоко вздохнул.
— Скажи мне.
— Я, кажется, сойду с ума, Сьюзен. Я могу отправить на электрический стул невинного человека, потому что я не знаю, что мне делать.
— Ты должен знать, что тебе следует делать.
— Возможно.
— Он невиновен?
— Я обязан в это верить.
— А ты веришь?
— Да.
— Тогда ты не позволишь им его убить, Мэтью, — сказала она, сжимая его руку.
Позже, уже в постели с ней, он продолжал думать о деле. Блики света, отражаясь от бассейна, плясали на потолке. Ему стаю казаться, что такие же тонкие лучики и серебристые пылинки доказательств парят в воздухе, гонимые ветром. Ее длинные волосы коснулись его лица, их губы слились. Он закрыл глаза, пятна света плясали на их телах. Она опустилась на него.
И он на какое-то время забыл и о сумочке, и о ключах, и о фильме, и о лопате — обо всех этих пропавших вещах. Во всем свете были только они двое: он и эта женщина, которую он любил когда-то и, возможно, полюбил снова.
Но потом он снова вернулся к той же мысли: вещи были у убийцы.
Надпись на деревянном щите гласила:
«ОРКИДЕЙШЕЗ»
Экзотические орхидеи
Ниже был указан адрес: 3755. Грунтовая дорога вела с Тимукуэн-Пойнт-роуд через пальмовые заросли. Эти земли использовались в качестве пастбищ — около тысячи акров были обнесены колючей проволокой.
Грунтовая дорога проходила мимо озера, окруженного дубами. В озере водились крокодилы. Дорога, тянущаяся вдоль берега целых полмили, упиралась в главный дом. Оранжереи находились ярдах в двухстах от главного дома, между ними был сарай, который служил конюшней во времена, когда здесь были еще лошади. Среди хижин затесалось некрашеное блочное строение без окон, в котором размещался генератор. Строение с земляным полом футов пятнадцать в ширину и двадцать в длину. В одной из стен — вентиляционная щель. С середины потолка свисала голая лампочка, выключатель был внутри, за толстой деревянной дверью, закрытой на засов.
Он отодвинул засов и включил свет.
На ней были только красные кожаные сапоги на высоком каблуке. Из мягкой красной кожи, длинные, до самых бедер. У нее были длинные медно-красные волосы, темнее, чем сапоги. Треугольник еще более темных курчавых волос — в том месте, где раздваивались ее ноги. Она сидела на земле в углу за генератором, со связанными руками и ногами. Трехдюймовая липкая лента закрывала рот. Глаза зеленели в тусклом свете лампочки под потолком.
— Добрый вечер. Кошечка, — сказал он.
Закрыв за собой дверь, он поставил принесенную сумку.
— Соскучилась тут без меня?
И подошел к ней, обогнув генератор. Она отпрянула от него, пытаясь как бы вжаться в угол. Посмотрев на нее и прищелкнув языком, он покачал головой.
— Как же ты перемазалась, сидя здесь, в грязи! Как не стыдно! Женщина, которая всегда так за собой следила!
И продолжал смотреть на нее сверху вниз.
— Может, снять эту ленту с твоего рта? Ты ведь не будешь кричать, если я ее сниму? Все равно тебя никто не услышит. Обещаешь не орать, если я сниму ленту?
Она кивнула.
— Честно? Ты не будешь кричать, как в прошлый раз? — Снова кивок. Зеленые глаза еще больше распахнулись.
— Ну, хорошо, давай снимем эту ленту, — сказал он, наклоняясь над ней. С улыбкой повертев ее голову, нашел конец ленты и рывком содрал ее. Она прикусила губу, сдерживая крик.
— Было больно, когда я снимал ленту?
Она молчала, прикусив губу.
— Ты меня слышишь? Тебе больно?
Он кивнул, выпрямился и подошел к двери, где оставил сумку.
— Есть хочешь?
— Да, — ответила она.
Он поднес к ней сумку.
— Держу пари, ты надеешься, что здесь сандвич, да?
Она молчала.
— Я задал тебе вопрос, — произнес он.
— Я не хочу есть.
— Не дерзи!
— Прости, я…
— Ты слышала мой вопрос?
— Да, я… Прости… если тебе показалось…
— Или ты не хочешь, чтобы я тебя накормил?
— Нет, хочу.
— Чего ты хочешь?
— Чтобы ты меня накормил.
— Даже объедками?
— Нет, нет…
— Снова дерзишь?
— Нет, нет! Извини. Но…
— Лучше не дерзи мне, Кошечка.
— Я больше не буду, честное слово!
— Я думал, ты готова взять в рот любую гадость. Разве не так? Что ты пошла против воли Божьей и грешишь под каждым зеленым кустом.
Он наклонился и посмотрел на ее рот.
— Все что угодно в этот рот, — сказал он, — а теперь ты отвергаешь хорошую сытную пищу?
— Ты не сказал, что…
— Женщина, которая любит поесть так, как ты… — Его взгляд упал на ее обнаженную грудь. — О, Боже, тебе холодно, Кошечка? Или страшно?
— Холодно, — ответила она.
— Но не страшно?
Она не ответила.
— Вот почему ты скукожилась? — спросил он и неожиданно сжал сосок ее левой груди большим и указательным пальцами. — Потому что тебе холодно? Или страшно? — Он сдавил сосок сильнее. — Тебе больно?
— Да, — ответила она.
— Ах, извини, — сказал он. — Так что же? Холодно или страшно?
— И то и другое. Отпусти меня.
— Ты хочешь сказать, что я должен тебя отпустить? — спросил он, сдавливая сосок сильнее. — Совсем?
— Да, пожалуйста.
— Я отпущу тебя, ты знаешь. Раньше или позже. Когда закончу с тобой.
— Пожалуйста, — повторила она.
— Больно?
— Да, я прошу тебя! Ну, пожалуйста!
Он отпустил ее сосок.
— Ну, а теперь как?
— Спасибо, — сказала она, прерывисто дыша.
— Держу пари, ты хотела бы иметь свитер. Ведь здесь прохладно, верно? Не исключено, что в этой сумке есть отличный теплый свитер. Хорошо было бы, если бы я принес тебе свитер?
— Да, — ответила она.
— Почему?
— Потому что мне холодно.
— А-а-а… А я решил, что ты стесняешься.
— Я хотела сказать не это.
— А что ты хотела сказать? Так ты стесняешься или нет?
— Как тебе угодно.
— Опять дерзость! Отвечай на мой вопрос!
— Я хотела сказать, что, если ты думаешь…
— Да, я думаю, что ты не стесняешься.
— Значит, я тоже так думаю.
— Но ведь на самом деле ты так не думаешь, верно? На твоем челе — знак порока, и ты отринула стыд, — он улыбнулся, — так тебе холодно?
— Очень.
— И страшно?
— Немного.
— Только немного? Ты боишься, что я могу тебя снова побить?
— Да.
— Но только немного. Возможно, я недостаточно тебя побил. Видимо, это так, если ты боишься только чуть-чуть…
— Я очень боюсь, — произнесла она.
— Тебе будет страшно, — сказал он, — тебе будет очень страшно, пока я не закончу с тобой, — он снова улыбнулся, — бедная Кошечка! Совсем голая и дрожащая от холода в своих сексуальных красных сапожках. Устали ножки, и пересохло горлышко. Хочешь пить?
— Да.
— Конечно, хочешь, чтобы я принес тебе попить. Конечно, хочешь, чтобы в сумочке был свитер, но его там нет. Я сжег всю твою одежду вчера вечером.
— Нет!
— Да. Одежда тебе больше не понадобится.
— Что… что ты хочешь сказать?
— Когда я отпущу тебя, одежда тебе не понадобится.
— Когда это будет?
— Когда я буду готов, — ответил он. — Вставай!
Оттолкнувшись от стены, она опустилась на колени. С трудом ей удалось подняться.
— Подойди сюда, ближе к свету!
Она пропрыгала в середину помещения.
— Тебя развязать?
— Да, пожалуйста.
— Нет, я так не думаю. Тебе интересно узнать, что там в сумке? Есть ли там еда?
— Да.
— Ее там нет.
— Но ты говорил…
— Я только сказал, что ты надеешься на сандвич, вот что я сказал.