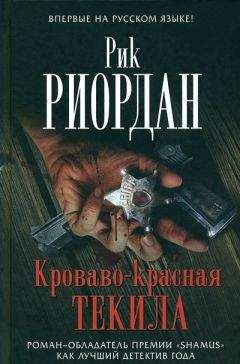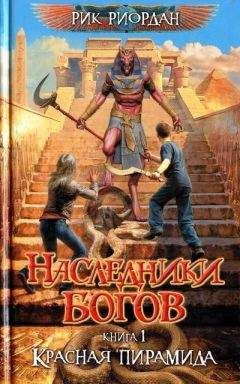Мы повесили трубки, и я посмотрел на Роберта Джонсона, который продолжал сидеть в моем чемодане.
У меня возникло ощущение, будто я вернулся в 1985 год. Мне снова девятнадцать, мой отец жив, а я все еще люблю девушку, на которой решил жениться, когда учился в старших классах средней школы. Мы едем на скорости семьдесят миль в час по I-35 на старом «Фольксвагене», хотя его предел шестьдесят пять, запивая паршивую текилу еще более паршивой содовой «Биг Ред»[5] — шампанское подростков под названием «Большая красная текила».
Я снова переоделся и вызвал такси, пытаясь вспомнить вкус той содовой. Теперь я уже сомневался, что смог бы пить такое и улыбаться, но был готов попробовать.
По всему Бродвею от улицы Куин-Энн до дома моей матери выстроились розовые рестораны, в которых подавали тако.[6] Уже не прежние потрепанные заведения семейного бизнеса, которые я помнил еще с тех времен, когда учился в школе, — эти имели все необходимые лицензии и гордо выставляли напоказ яркие неоновые вывески и розовых фламинго, нарисованных на стенах. У меня сложилось впечатление, что они там торчат через каждые полмили.
Достопримечательности, украшавшие центр Аламо-Хайтс, исчезли, семейство Монтанио продало «Пятьдесят на пятьдесят», любимый бар моего отца, куда он частенько захаживал пропустить стаканчик. Закусочная, принадлежавшая Стиллам, уступила свое место «Тексако». В общем, большинство заведений, носивших имена людей, которых я знал, поглотили безликие государственные сети. Витрины других были заколочены досками, равнодушные объявления «Сдается внаем» истрепались и выгорели до такого состояния, что прочитать их не представлялось возможным.
Впрочем, город все еще мог похвастаться тысячей оттенков зеленого цвета. Повсюду около старых домов толпились древние и еще живые дубы, акации и техасский лавр. Такой роскошный, густой цвет можно увидеть в некоторых городах после сильного дождя.
Солнце уже село, но температура воздуха так и не опустилась ниже тридцати пяти градусов, когда такси свернуло на Вандивер. Здешние места не знают мягких вечерних красок, характерных для Сан-Франциско, тут нет окутанных тенями холмов и тумана, который, точно ретушью, обрисовывает пейзажи для туристов, собравшихся на мосту «Золотые ворота». Свет в Сан-Антонио выполняет свое прямое назначение, и все, чего он касается, приобретает четкие очертания, особенно яркие в горячем воздухе. Солнце не спускает с города глаз до самого последнего мгновения и смотрит так, будто хочет сказать: «Завтра я надеру тебе задницу».
Вандивер-стрит совсем не изменилась. Разбрызгиватели воды вырисовывали круги на огромных лужайках, и похожие на призраков пенсионеры бесцельно таращились в картинные окошки белых домов, построенных после Второй мировой войны. Единственная разница заключалась в том, что дом моей матери пережил очередную реинкарнацию и, если бы не громадный дуб перед ним, двор с утрамбованной землей, усыпанной желудями, и растущие тут и там кустики земляники, я бы позволил водителю такси проехать мимо.
Впрочем, как только я увидел оштукатуренный дом с оливкового цвета стенами и ярко-красной крышей из глиняной черепицы, у меня возникло почти непреодолимое желание не останавливаться. В прошлый раз он больше напоминал бревенчатую хижину. А еще раньше являл собой псевдотворение в стиле Фрэнка Ллойда Райта.[7] За долгие годы моя мать подружилась с несколькими подрядчиками, которые благодаря ей получали стабильный доход.
— Трес, милый, — сказала она, открыв дверь, и обхватила мое лицо обеими руками, чтобы поцеловать.
Моя мать нисколько не изменилась и в свои пятьдесят шесть выглядела на тридцать. Сегодня она надела свободное гватемальское платье цвета фуксии, украшенное голубой вышивкой, черные волосы завязала на затылке ярким плетением разноцветных лент. Следом за ней из дома выплыл запах ванильных палочек.
— Ты потрясающе выглядишь, мама, — сказал я совершенно искренне.
Она улыбнулась, затащила меня за руку в дом и повела к столу для пула, стоявшему в дальнем конце громадной гостиной.
Ее прежний декор в поздне-богемском стиле уступил место раннему Санта-Фе, но общий принцип остался прежним — «клади все везде». Полки и столы были завалены антикварными ножами, куклами из папье-маше, резными деревянными шкатулками, копиями волков, воющих на копии луны, я даже успел разглядеть неоновый кактус — в общем, все, что привлекает внимание.
За столом для пула сидели мои старые знакомые из средней школы. Я пожал руки Барри Уильямсу и Тому Каванаро. Оба играли со мной в университетской команде. Они находились здесь, потому что моя мать любила развлекать гостей пулом и бесплатным пивом. Потом я кивнул Джессу Мейкару, закончившему университет, когда я поступил на первый курс. Он пришел, потому что у них с моей матерью был роман.
Парни задали обычные вежливые вопросы, я на них ответил, и они вернулись к игре, а мать отвела меня на кухню.
— Джесс красиво стареет, — сказал я ей.
Повернувшись ко мне от холодильника и протягивая бутылку пива «Шайнер Бок», она поджала губы и наградила меня сердитым взглядом.
— Даже не начинай, Джексон, — заявила она.
Когда она меня так называла, именем, полученным от отца и деда, я никогда не мог понять, ругает она всех мужчин клана Наварров или только меня. Возможно, и то и другое.
— Ты мог бы, по крайней мере, дать ему шанс, — заявила она, усаживаясь за стол. — После того как мне пришлось столько лет выносить твоего отца, потом пережить твою учебу в школе, думаю, для разнообразия, я имею право сама решать свою судьбу.
После развода моя мать множество раз сама решала свою судьбу. За пятнадцать лет она прошла путь от чемпиона по выпечке пирогов с пеканом, участвовавшего в состязании по случаю традиционного парада «Техасских рыцарей», до свободного художника, обожавшего огромные полотна, молодых мужчин и «Новый век».[8]
— Расскажи-ка мне про Лилиан, — снова улыбнувшись, велела она.
— Я не знаю, — ответил я.
Возникла вполне ожидаемая пауза, которую мне следовало заполнить признанием собственной вины.
— Тебе же хватило ума вернуться, — попыталась подтолкнуть меня мать.
Она хотела, чтобы я сказал, что женюсь на Лилиан прямо завтра, и все из-за того, что мы с ней два месяца — с тех пор, как она вдруг возникла как гром с ясного неба, — обменивались письмами и телефонными звонками. Моя мать просто мечтала это услышать, но я не собирался ей врать, поэтому сидел и молча пил пиво.
— Я всегда знала. Лилиан такая творческая молодая женщина. Я не сомневалась, что ты рано или поздно вернешься.
— Угу.
— А смерть твоего отца?
Я поднял голову и посмотрел на нее. Ощущение буйной энергии, которая окутывала мою мать, точно сильный аромат духов, полностью исчезло, и я увидел, что она задала свой вопрос совершенно серьезно.
— Ты о чем? — спросил я.
Разумеется, я прекрасно понял, что она имела в виду. Вернулся ли я, чтобы разобраться и с этим тоже, или сумел оставить историю гибели отца в прошлом? Мать смотрела на меня и ждала ответа. Я взглянул на свое пиво. Маленький барашек на этикетке вытаращил на меня глаза.
— Я не знаю, — сказал я. — Мне казалось, что десять лет все изменят.
— Должны были изменить, дорогой.
Я кивнул, не глядя на нее. В соседней комнате кто-то с громким стуком ударил по биллиардному шару. Примерно через минуту мать вздохнула.
— Для вас с Лилиан прошло не так много времени, — сказала она мне. — Но твой отец… тут другое. Оставь это как есть, Трес. Все изменилось.
Пятнадцать минут спустя, после трех серий автомобильных реанимационных мероприятий и моей непристойной ругани, старенький «Фольксваген» чихнул, ожил и резво выкатился с подъездной дорожки. Судя по звуку, мотор находился в жуткой форме, но не хуже, чем десять лет назад, когда я решил, что он не выдержит дороги до Калифорнии. Левая передняя фара по-прежнему не работала. Стаканчик, из которого я пил пиво в 1985 году, так и остался между сиденьем и аварийными тормозами. Я помахал рукой матери, не изменившейся за десять лет.
И поехал к дому Лилиан, тому самому, в котором она жила тем летом, когда я уехал.
— Все изменилось, — повторил я слова матери, немного жалея, что не могу в это поверить.
— Теперь я знаю, что влюблена, — сказала мне Лилиан, сделав глоток из своего стакана.
Идеальная «Маргарита» должна быть со льдом, но не замороженной. Свежевыжатый лайм и никакого миксера. Скорее «Куантро», и ни в коем случае не «Трипл-сек».[9] Не просто текила, а выдержанная «Эррадура Аньехо», сорт, который еще пару лет назад продавали только по ту сторону границы. Все три ингредиента в одинаковом соотношении. Без соли на ободке стакана вполне может называться «Дайкири».