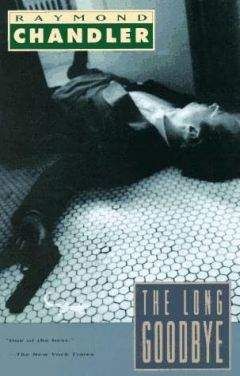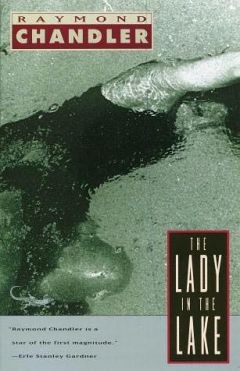Вам? Конечно, вы были один в доме и знали, где револьвер. Идеальная раскладка. Только мотива нет, но тут, возможно, надо учесть, что жы человек опытный. На мой взгляд, если бы вам пришло в голову кого-нибудь убить, вы могли бы это сделать не так явно.
– Спасибо, Берни. Вообще-то, мог бы.
– Прислуги не было. У них выходной. Остается вариант случайного посетителя. Но он должен был знать, где у Уэйда револьвер; появиться как раз, когда тот был так пьян, что заснул и отключился; спустить курок, когда шум моторки заглушил выстрел, и удрать до вашего возвращения. Судя по тому, что мне пока известно, такой вариант не проходит. Единственный, у кого были средства и возможность, вряд ли пустил бы их в ход – по той простой причине, что он единственный. Я встал, собираясь уходить.
– О'кей, Берии. Я буду дома весь вечер.
– Только вот еще что, – задумчиво произнес Олз. Этот самый Уэйд был знаменитый писатель. Большие деньги, большая слава. Мне-то самому его дерьмовые книжки не по душе. В бардаке и то попадаются люди приятнее, чем его персонажи. Это вопрос вкуса, я полицейский, не мне судить. У него был прекрасный дом в одном из лучших мест в стране. Красивая жена, полно друзей, никаких забот. Интересно, что же его так достало, если он пустил себе пулю в лоб? А ведь что-то достало, черт побери. Если вы знаете, то имейте в виду ? придется это выложить. Ну, пока.
Я подошел к двери. Охранявший ее человек оглянулся на Олза, тот сделал знак и меня выпустили. Я сел в машину. Разные служебные автомобили перекрыли всю подъездную дорогу, и мне пришлось выехать на лужайку, чтобы их обогнуть.
У ворот меня осмотрел другой полицейский, но ничего не сказал. Я надел темные очки и поехал к шоссе. Дорога была пустая и тихая. Вечернее солнце освещало вылизанные лужайки и просторные дорогие дома.
В одном из таких домов, в луже крови умер человек, имевший кое-какую известность, но ленивая тишина Беспечной Долины ничем не была нарушена.
Газеты проявили столько же интереса, сколько к событиям в Тибете.
На повороте, где заборы двух участков подходили к самой обочине, стояла темно-зеленая машина. Из нее вышел еще один помощник шерифа и поднял руку. Я остановился. Он подошел к окну.
– Будьте добры, ваши права.
Я достал бумажник и подал ему в раскрытом виде.
– Только права, пожалуйста. Мне не разрешается трогать ваш бумажник.
Я вынул права и вручил ему.
– Что случилось? Он заглянул в машину и отдал права обратно.
– Ничего, – сказал он. – Обычная проверка. Простите, что побеспокоил.
Он махнул, чтобы я проезжал, и пошел к своей машине. Полицейские дела.
Никогда не говорят, в чем дело. А то вы догадаетесь, что они и сами не знают.
Я доехал до дому, угостился парой холодных стаканчиков, съездил пообедать, вернулся, распахнул окна, расстегнул рубашку и стал ждать, что произойдет. Ждал я долго. Было уже девять часов, когда Берни Олз позвонил, велел мне приехать и по пути не прохлаждаться, цветочков не собирать.
В приемной шерифа, на жестком стуле у стены, уже сидел Кэнди. Под его ненавидящим взглядом я прошел в большую квадратную комнату, где шериф Петерсен вершил правый суд, окруженный подношениями благодарной общественности за двадцать лет беспорочной службы. Стены сплошь были увешаны фотографиями лошадей, и на каждой фотографии шериф Петерсен присутствовал лично. Углы его резного письменного стола были сделаны в форме лошадиных голов. Отполированное копыто в оправе служило чернильцей, в другое такое же был насыпан белый песок и воткнуты ручки. На обоих – золотые пластинки с надписями каких-то памятных дат. На девственно чистом блокноте лежал пакет табака «Билл Дерхэм» и пачка коричневой папиросной бумаги. Петерсен курил самокрутки. Он мог свернуть сигарету одной рукой, сидя верхом на лошади, что часто и делал, особенно когда выезжал перед парадом на большой белой кобыле, в мексиканском седле, красиво изукрашенном мексиканским серебром. В этих случаях он надевал плоское мексиканское сомбреро. Наездник он был прекрасный, и лошадь всегда точно знала, где трусить смирно, где взбрыкнуть, чтобы шериф, величественно улыбаясь, привел ее в чувство одной рукой. Этот номер был отработан что надо. У шерифа был красивый ястребиный профиль, и хотя под подбородком слегка обозначалась дряблость, он знал, как держать голову, чтобы не было слишком заметно. В каждый свой фотопортрет он вкладывал много труда. Ему шел уже шестой десяток, и отец его, родом из Дании, оставил ему в наследство кучу денег. Шериф не был похож на датчанина – волосы темные, кожа смуглая. Бесстрастной величавостью он скорее напоминал деревянную фигуру индейца – рекламу табачной лавки, и по уму немногим от него отличался. Но мошенником его не называли ни разу. Под его началом служили мошенники, и они дурачили его так же, как всех остальных, но к шерифу Петерсену ничего такого не приставало. Его просто снова и снова избирали шерифом без всяких усилий с его стороны, он гарцевал на парадах на белой лошади и допрашивал подозреваемых под взглядом фотокамер. Так гласили надписи под фотографиями. На самом деле он никогда никого не допрашивал, потому что не умел. Просто садился за стол, сурово глядя на подозреваемого и демонстрируя камере свой профиль. Сверкали вспышки, фотографы подобострастно благодарили шерифа, подозреваемого уводили, так и не дав ему рта открыть, а шериф уезжал на свое ранчо в долине Сан-Фернандо. Туда ему легко было дозвониться. Если не удавалось связаться с ним лично, ты мог побеседовать с кем-нибудь из его лошадей. Время от времени, поближе к выборам, какой-нибудь неопытный политик, пытаясь отобрать у шерифа Петерсена его пост, начинал называть его «Цирковым наездником», или «Репутацией, построенной на профиле», но из этого ничего не получалось. Шерифа Петерсена все равно избирали опять – как живое свидетельство, что у нас в стране можно вечно занимать крупный выгодный пост, если у тебя рыльце не в пушку, фотогеничная внешность и язык держится за зубами. А уж если хорошо смотришься на лошади, цены тебе нет.
Когда мы с Олзом вошли, шериф Петерсен стоял у окна, а фотографы гуськом удалялись через другую дверь. На шерифе была белая шляпа «стетсон».
Он свертывал сигарету. Уже намылился домой. Он сурово взглянул на нас.
– Кто это? – осведомился он густым баритоном.
– Это Филип Марлоу, шеф, – ответил Олз. – Тот, что был в доме Уэйдов; когда застрелился хозяин. Будете с ним фотографироваться?
Шериф внимательно изучил меня.
– Не стоит, – изрек он, поворачиваясь к высокому мужчине с усталым лицом и с седеющими стальными волосами. – Если понадобится, я буду на ранчо, капитан Эрнандес.
– Слушаюсь, сэр.
Петерсен прикурил сигарету от кухонной спички. Чиркнул ее об ноготь.
Шериф Петерсен зажигалок не признает. Мы такие: сами крутим, одной рукой прикуриваем.
Он попрощался и отбыл. За ним вышел тип с бесстрастным лицом и жесткими черными глазами – его личный телохранитель. Капитан Эрнандес подошел к столу, сел в огромное шерифское кресло, а стенографист в углу отодвинул столик от стены, чтобы не тыкаться в нее локтем. Олз присел к столу, вид у него был вполне довольный.
– Ну, Марлоу, – отрывисто произнес Эрнандес. – Выкладывайте.
– А почему меня не сфотографировали?
– Вы же слышали, шериф не захотел.
– Да, но почему? – жалобно заныл я. Олз рассмеялся.
– Не притворяйтесь, сами знаете почему.
– Неужели потому, что я высокий, смуглый и красивый, он не хочет со мной сниматься?
– Прекратите, – холодно распорядился Эрнандес. – Давайте показания. С самого начала.
Я рассказал с самого начала: моя встреча с Говардом Спенсером, знакомство с Эйлин Уэйд, ее просьба найти Роджера, приглашение к ним в дом, разговоры с Уэйдом, и как я нашел его без чувств под кустами, и все остальное. Стенографист записывал. Никто меня не прерывал. Все это было правдой. Правда и ничего, кроме правды. Но не вся правда целиком. Что уж я пропустил, это мое дело.
– Хорошо, – сказал наконец Эрнандес. – Но кое-чего не хватает. – Этот капитан был спокойный, опытный, опасный парень. Нужен же был шерифу хоть один знающий человек. – В ту ночь, когда Уэйд выстрелил у себя в спальне, вы входили в комнату м-с Уэйд и пробыли там какое-то время за закрытой дверью.
Что вы там делали?
– Она позвала меня узнать, как он себя чувствует.
– Зачем вы закрыли дверь?
– Уэйд как раз засыпал, и я не хотел шуметь. Да и слуга околачивался поблизости с большим ухом. Дверь закрыть попросила она. Я тогда не думал, что это имеет какое-то значение.
– Сколько вы там пробыли?
– Не знаю, минуты три.
– А я говорю, что вы провели там пару часов, – холодно заявил Эрнандес.?
Вам понятно?
Я взглянул на Олза. Олз ни на что не глядел. Жевал, как обычно, незажженную сигарету.
– Вас неверно информировали, капитан.