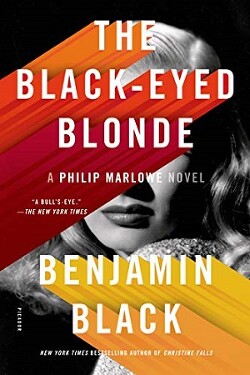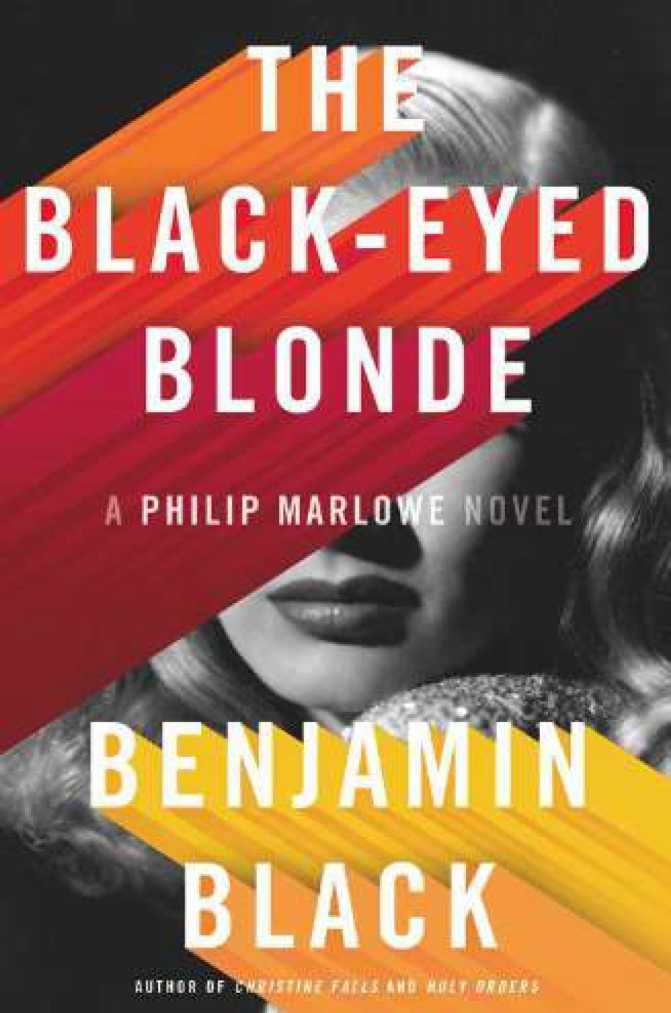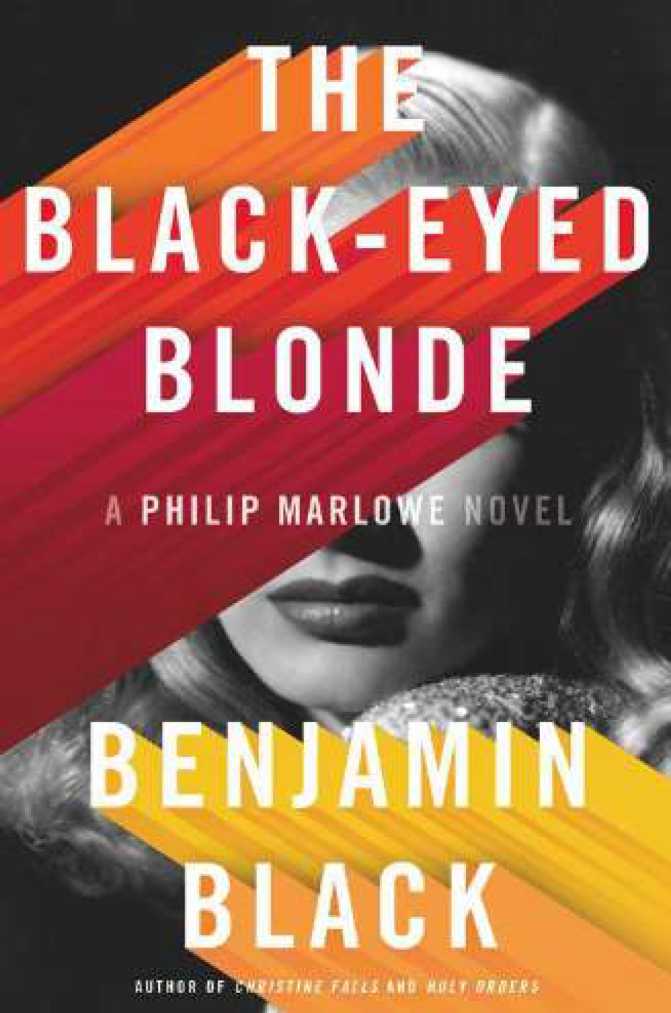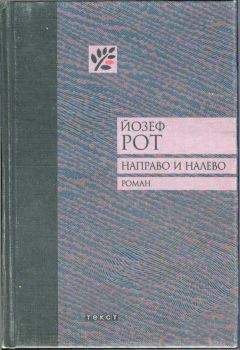— Не совсем, но я думаю, ты всё равно мне расскажешь.
Я был прав. Он так и сделал. Его предложения были громкими, образными и по большей части анатомически невыполнимыми.
Когда он закончил, я вежливо пожелал ему спокойной ночи и повесил трубку. Он неплохой парень, Берни. Но, как я уже сказал, запальный шнур у него короткий, и становится всё короче.
* * *
Я все ещё мог смотреть в окно. Почему огни города, видимые издалека, кажутся мерцающими? Когда вы смотрите на них вблизи, они имеют устойчивый блеск. Должно быть, это как-то связано с окружающим воздухом, с миллионами мельчайших пылинок, кружащихся в нём. Все выглядит неподвижным, но это не так; оно движется. Например, стол, на который я положил ноги, был вовсе не твердым, а роем частиц, таких маленьких, что ни один человеческий глаз никогда не сможет их увидеть. Мир, если разобраться, — страшное место. И это даже не считая людей.
Раньше я думал, что Клэр Кавендиш может разбить мне сердце. Я не понимал, что оно уже разбито. Живи и учись, Марлоу, живи и учись, жизнь не становится длиннее.
Было чуть больше десяти, когда она позвонила. К тому моменту, ослабев и решив подкрепиться, я снова достал бутылку из глубокого тайника в ящике стола и налил себе скромную порцию бурбона на два пальца. Почему-то спиртное не кажется такой уж серьезной вещью, когда пьёшь его из бумажного стаканчика. Виски обожгло рот, который и так пострадал от всех тех сигарет, выкуренных за долгий день. Безусловно, я был не их тех, кто должен был советовать Берни Олсу бросить эту привычку.
Я знал, что телефон зазвонит за секунду до того, как это произошло. Её голос был приглушенным, почти шёпотом.
— Он здесь, — сказала она. — Приходите обычным путем, через оранжерею. И не забудьте выключить фары.
Не помню, что я ответил. Может быть, я ничего и не сказал. Я всё еще пребывал в том странном сонном состоянии подвешенности, словно плавал где-то снаружи, наблюдая за своими действиями, но почему-то не принимая в них участия. Я полагаю, это было результатом всех этих ожиданий и напрасной траты времени.
Руфус ушёл домой, и пол, который он вымыл, давно высох, хотя подошвы моих ботинок скрипели по нему, как будто он всё ещё был мокрым. Ночь снаружи была прохладной, и дневной дым наконец рассеялся. Я припарковал машину на Вайн-стрит, под уличным фонарем. Как-будто большое тёмное животное затаилось на тротуаре, а фары, казалось, зловеще смотрели на меня. Потребовалось какое-то время, чтобы мотор начал кашлять и отплевываться, прежде чем с грохотом ожить. Вероятно, требовалась замена масла или что-то в этом роде.
Я ехал медленно, но всё равно прошло немного времени прежде чем показалось море. Я повернул направо по шоссе, и волны призрачной, бурной белой линией протянулись в темноте слева от меня. Я включил радио. Я редко это делаю, и потому я надолго забываю, что там было в последний раз. Станция, на которую был настроен приёмник, играла старый номер группы Пола Уайтмена, горячую музыку, безопасно охлаждённую для широких масс. Меня поражает, как у парня с фамилией Уайтмен [103] хватило духу играть джаз.
Прямо передо мной дорогу перебежал заяц, его хвост неестественно сверкнул в свете фар. Я мог бы провести некоторую параллель между животным и мной, но чувствовал себя слишком беспристрастным, чтобы озаботиться этим.
Подъехав к воротам, я выключил фары, убрал ногу с педали газа и дал машине остановиться. Луна зашла, и повсюду была тьма. Деревья нависали, как огромные слепые звери, вынюхивающие в ночи дорогу. Я немного посидел, прислушиваясь к тиканью мотора. Я чувствовал себя путешественником, завершившим долгое и утомительное путешествие. Я хотел отдохнуть, но знал, что пока не могу.
Я вышел из машины и с минуту постоял рядом, принюхиваясь. От двигателя исходил запах гари, но кроме этого ночь благоухала запахом травы, роз и чего-то другого, названия чему я не знал. Я пошёл через лужайку. В доме было темно, за исключением нескольких освещенных окон на втором этаже. Я подошёл к гравийной дорожке под входной дверью и свернул налево. Запах роз здесь был сильным, приторным и почти непреодолимым.
Где-то поблизости послышался шум, и я остановился, но ничего в темноте не увидел. Затем я уловил вспышку синего, глубокого, блестящего синего, и раздался свистящий звук, который быстро исчез. Должно быть, это был павлин. Я надеялся, что он не закричит, иначе мои нервы не выдержали бы.
Завернув за угол дома и приблизившись к оранжерее, я услышал звуки рояля и остановился, прислушиваясь. Шопен, догадался я, но, наверное, ошибся — для меня всё на рояле звучит как Шопен. Музыка, почти неслышная с такого расстояния, казалась душераздирающе прекрасной, и, ну, или просто душераздирающей. Представь себе, подумал я, что такие звуки можно извлекать из большого черного ящика, сделанного из дерева, слоновой кости и натянутой проволоки.
Французские двери, ведущие в оранжерею, были заперты, но я воспользовался надёжной штуковиной со своей связки ключей и через несколько секунд оказался внутри.
Я пошёл на звук музыки. В полумраке я пересек комнату, которую помнил как гостиную, и прошёл по короткому, покрытому ковром коридору, в конце которого была закрытая дверь, ведущая, как я понял, в музыкальную комнату. Я крался вперёд стараясь не издавать ни звука, но был всё ещё был в добрых пяти ярдах от двери, когда музыка оборвалась на середине фразы. Я тоже остановился и прислушался, но ничего не услышал, кроме ровного, низкого жужжания неисправной лампочки в высокой лампе рядом со мной. Чего же я ждал? Ожидал ли я, что дверь распахнется и толпа любителей музыки хлынет наружу, затащит меня внутрь и усадит в первый ряд?
Я не стал стучать, просто повернул ручку, толкнул дверь и вошёл.
Клэр сидела за роялем. Когда я вошёл, она закрыла крышку и повернулась боком на табурете, чтобы взглянуть на меня. Должно быть, она услышала меня в коридоре. Её лицо ничего не выражало; казалось, она даже не удивилась моему неожиданному появлению. На ней было длинное, до пола, тёмно-синее платье с высоким воротом. Её волосы были заколоты наверх, на ней были серьги и ожерелье из маленьких белых бриллиантов. Она выглядела так, словно оделась для концерта. А где же её зрители?
— Привет, Клэр, — сказал я. — Не позволяйте мне прервать музыку.
Шторы перед двумя высокими окнами в стене позади пианино были задёрнуты. Единственным источником света в комнате была большая медная лампа, стоявшая на крышке рояля. У неё был шар из белого стекла, а основание было отлито в форме львиного когтя. Мать Клэр решила бы, что это последнее слово в дизайне. Вокруг него было расставлено несколько десятков фотографий в серебряных рамках разного размера. На одной из них я узнал Клэр — молодую девушку с цветочной диадемой в коротких светлых волосах.
Теперь она встала, шёлк ее платья издал слабый, ломкий шорох; это был тот женский звук, который всегда заставляет сердце мужчины биться быстрее, независимо от обстоятельств. Её лицо по-прежнему ничего не выражало из того, что она чувствовала.
— Я не слышала вашей машины, — сказала она. — Возможно, играла слишком громко.
— Я оставил её у ворот, — сказал я.
— Да, но обычно я слышу, когда где-нибудь поблизости останавливается машина.
— Значит, всё дело в музыке.
— Да. Я отвлеклась.
Мы стояли, разделенные пятнадцатью футами пола, и беспомощно смотрели друг на друга. Я не знал, насколько это будет тяжело. Шляпу я держал в руке.
— Где он? — спросил я.
Она расправила плечи и подняла голову, её ноздри раздулись, как будто я сказал что-то оскорбительное.
— Зачем вы пришли сюда? — спросила она.
— Вы сами мне сказали. По телефону.
Она нахмурилась, наморщив лоб.
— Неужели?
— Да, это так.
Её мысли, казалось, были где-то в другом месте; она была отвлечена, это точно. Когда она заговорила снова, её голос стал неестественно громким, как будто она хотела, чтобы его услышали.