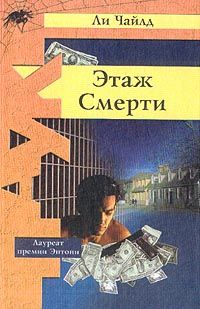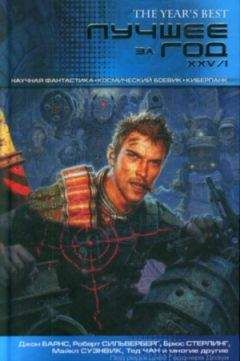— Какую кассету? — встрепенулся Хаббл.
Финлей посмотрел на него.
— Роско заставили обратиться к Ричеру, — сказал он. — Эта кассета должна была доказать, что она действительно у них в руках.
— Роско? — спросил Хаббл. — А Чарли?
Финлей покачал головой.
— Только Роско, — солгал он.
Хаббл кивнул. Я мысленно отметил: «Умный ход, выпускник Гарварда». Мысль о том, что Чарли держали перед микрофоном, приставив нож к горлу, могла столкнуть Хаббла с обрыва. С плато вниз, в пропасть, где от него не будет никакого толку.
— Они на складе, — повторил я. — Несомненно.
Хаббл знал склад достаточно хорошо. Он проработал там почти полтора года. Поэтому мы насели на него, заставив подробнейшим образом описать склад изнутри. Отыскав бумагу и карандаш, попросили Хаббла нарисовать план. Мы снова и снова проверяли этот план, нанося на него двери, лестницы, расстояния, детали. У нас появился чертеж, которого не постеснялся бы и архитектор.
Ангар стоял последним в ряду из четырех таких же, на отдельной огороженной территории. От соседнего, где хранились удобрения, он был отделен проволочным забором. Между забором и стеной ангара с трудом мог пройти человек. Вдоль остальных трех сторон проходил внешний забор, которым была обнесена вся территория складов. Сзади забор подступал к стене ангара довольно близко, но перед воротами мог спокойно развернуться грузовик.
Большие подъемные ворота занимали почти всю переднюю стену. В дальнем углу имелась небольшая дверь на уровне земли. Прямо за этой дверью находился механизм ворот. Слева начиналась открытая металлическая лестница, ведущая в кабинет. Сам кабинет находился в задней части просторного склада, приподнятый над землей футов на сорок. Для того чтобы наблюдать за происходящим на складе, в кабинете имелись большие окна, а спереди была небольшая площадка. В задней стене кабинета дверь, ведущая к пожарному выходу — открытому металлическому трапу, закрепленному снаружи на стене ангара.
— Так, — сказал я. — Кажется, все понятно.
Финлей пожал плечами.
— Меня беспокоит возможное подкрепление. Охранники у наружных ворот.
— Подкрепления не будет, — заверил его я. — Меня больше беспокоят ружья. Помещение большое, а в нем двое детей.
Финлей мрачно кивнул. Он понял, что я имею в виду. Ружье выбрасывает широкий конус свинца. Ружья и дети несовместимы. Мы умолкли. Времени было почти два часа ночи. Ждать осталось полтора часа. Мы тронемся в половине четвертого. Прибудем на место в четыре. Мое любимое время нападения.
Ожидание. Солдаты в окопе. Летчики перед вылетом. Мы молчали. Финлей задремал. Ему уже приходилось проходить через подобное. Вероятно, много раз. Он вытянулся на стуле, свесив левую руку. На запястье болтался перекушенный наручник, похожий на серебряный браслет.
Хаббл сидел неестественно выпрямившись. Для него это было впервые. Он суетился, сжигая энергию. Я не мог его в этом винить. Хаббл постоянно украдкой бросал на меня взгляды. В его глазах горели вопросы. Я молча пожимал плечами.
В половине третьего раздался стук в дверь. Тихое постукивание. Дверь приоткрылась. Вернулся старший из стариков. Он просунул в щель узловатый дрожащий палец, указывая прямо на меня.
— Сынок, кое-кто хочет с тобой встретиться, — сказал он.
Финлей, проснувшись, встрепенулся. Хаббл был перепуган. Я сделал знак оставаться на местах. Встал и достал из кармана пистолет. Щелкнул предохранителем. Старик, засуетившись, махнул рукой.
— Это тебе не понадобится, сынок. Совсем не понадобится.
Он сгорал от нетерпения. Кивнул, предлагая подойти к нему. Я убрал пистолет. Переглянувшись с остальными, пожал плечами и вышел вслед за стариком. Он провел меня в крохотную кухоньку. Там на табуретке сидела очень старая женщина. Такого же красновато-бурого цвета, тощая как палка. Она была похожа на старое дерево зимой.
— Это моя сестра, — сказал старик-парикмахер. — Вы ее разбудили своей болтовней.
Шагнув к старухе, он заговорил прямо ей в ухо.
— Вот тот парень, о котором я тебе рассказывал.
Подняв взгляд, старуха улыбнулась. Мне показалось, из-за туч выглянуло солнце. На мгновение, я увидел красоту, которой эта женщина обладала давным-давно. Она протянула руку, я ее пожал. Словно прикоснулся к тонким проволокам в мягкой, сухой перчатке. Старик-парикмахер оставил нас одних. Уходя, он задержался рядом со мной.
— Спроси ее о нем.
Он закрыл за собой дверь. Я не выпускал руку старухи. Присел рядом на корточки. Она не пыталась высвободить свою руку, лежавшую высохшей коричневой веточкой в моей лапе.
— Я плохо слышу, — сказала негритянка. — Тебе придется нагибаться к самому уху.
Я склонился к ней. От нее пахло как от высохшего цветка. Как от увядших лепестков.
— Так слышно? — спросил я.
— Хорошо слышно, сынок.
— Я спрашивал у вашего брата насчет Слепого Блейка.
— Знаю, сынок. Он мне говорил.
— Он сказал, вы его знали, — произнес я старухе прямо в ухо.
— Конечно, знала. И очень хорошо.
— Вы не расскажете о нем?
Она печально посмотрела на меня.
— А что рассказывать? Его уже так давно нет в живых.
— Каким он был?
Старуха не отрывала от меня взгляда. Ее глаза затуманились. Она вернулась назад в прошлое, на шестьдесят, семьдесят лет.
— Он был слепой.
Некоторое время она молчала. Ее губы беззвучно дрожали, на жилистом запястье сильно стучал пульс. Старуха повела головой, словно пытаясь услышать доносящиеся издалека слабые отголоски.
— Он был слепой, — повторила она. — Но он был замечательным парнем.
Ей было больше девяноста лет. Она была ровесницей двадцатого века. Поэтому она обратилась к тому времени, когда ей было лет двадцать-тридцать. Не к своему детству. Она вспоминала молодость. А Блейк был для нее замечательным парнем.
— Я пела, — продолжала старуха, — а он играл на гитаре. Знаешь, такое старое выражение: «он играл на гитаре, как будто звонил в колокольчик»? Вот так я говорила про Блейка. Он брал свой старый инструмент, и ноты извлекались быстрее, чем их можно было спеть. Каждая звучала маленьким серебряным колокольчиком, зависала в воздухе. Так мы играли и пели всю ночь. Утром я вела Блейка на лужайку, и мы садились под каким-нибудь старым тенистым деревом, снова пели и играли. Просто потому, что нам нравилось. Просто потому, что я умела петь, а он — играть на гитаре.
Старуха вполголоса промурлыкала пару нот. Ее голос оказался на октаву ниже, чем можно было ожидать. Она была такой тонкой и хрупкой, что я думал услышать высокое, срывающееся сопрано. Но старуха запела низким, грудным контральто. Я попытался вернуться вместе с ней в далекое прошлое и представил их с Блейком на зеленой лужайке. Сочный аромат полевых цветов, ленивое жужжание насекомых, а двое молодых людей сидят под деревом, поют и играют на гитаре, радуясь жизни. Исполняют те гневные, непокорные песни, за которые я так любил Блейка.
— Что с ним случилось? — спросил я. — Вы знаете?
Старуха кивнула.
— Это знают два человека на всем белом свете. Я одна из них.
— Вы мне не расскажете? В общем-то, я именно за этим и приехал сюда.
— Шестьдесят два года, — сказала она. — Шестьдесят два года я не говорила об этом ни одной живой душе.
— А мне вы расскажете?
Старуха кивнула. Печально. Ее старческие глаза затуманились слезами.
— Шестьдесят два года, — повторила она. — Ты первый, кто спросил меня об этом.
Я затаил дыхание. Ее губы дрожали, рука, зажатая в моей руке, тряслась.
— Он был слепой, но очень живой. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Живой. Подвижный, жизнерадостный. Всегда улыбающийся. Энергия из него била ключом. Ходил быстро, говорил быстро, постоянно в движении, на лице все время обаятельная улыбка. Однажды мы вышли из клуба, здесь, в этом городе, и шли по тротуару, болтая и смеясь. На улице больше никого не было, кроме двух белых, шедших нам навстречу. Мужчина и мальчик. Увидев их, я соскочила с тротуара, как нам и предписывалось поступать. Встала в грязь, пропуская их. Но бедняга Блейк был слепой. Он их не увидел. Налетел на мальчишку. Мальчишке было лет десять-двенадцать. Блейк столкнул его с тротуара. Белый мальчишка ударился головой о камень и заорал благим матом. С ним был его папаша. Я его знала. В нашем городе он был большой важной шишкой. Мальчишка кричал, не умолкая. Требовал, чтобы его папаша наказал ниггера. Папаша вышел из себя и набросился на Блейка. Принялся колотить его своей палкой. С большим серебряным набалдашником. Он бил беднягу Блейка до тех пор, пока не раскроил ему голову словно лопнувший арбуз. Забил его до смерти. Затем он взял мальчишку и повернулся ко мне. Заставил набрать воды из корыта, из которого поили лошадей, и смыть с его трости волосы и мозги бедняги Блейка. Приказал никому не говорить о случившемся, пообещав в противном случае убить и меня. Поэтому я спряталась и дождалась, пока прохожие нашли тело бедняги Блейка. Тогда я тоже стала голосить вместе со всеми. До сего дня я не обмолвилась об этом ни одной живой душе.