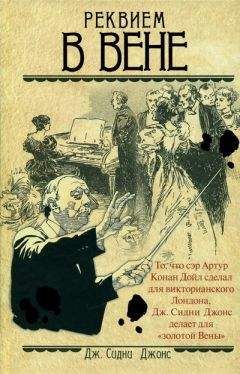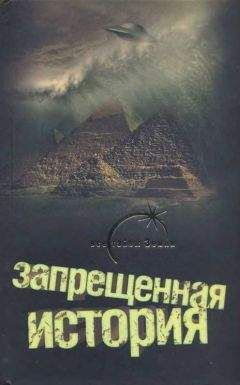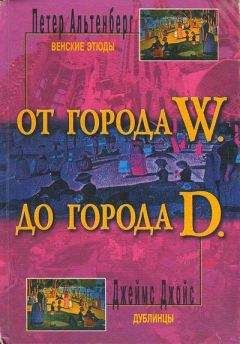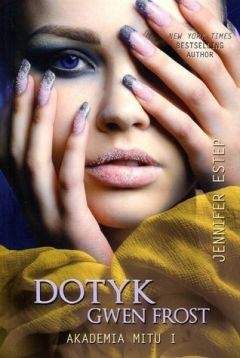Малер не докучал себе общепринятыми приличиями; пренебрегши салонной болтовней, он немедленно заявил:
— Итак, дамы, я уверен, что вы простите господина Вертена и меня за то, что мы уединимся для короткого делового совещания.
Его сестра и госпожа Бауэр-Лехнер оказались невосприимчивыми к резкости Малера, наверное, перестрадав от нее, уже в течение многих лет, возможно, даже поощряя ее как признак его художественного гения. Берта, напротив, заметно ощетинилась на это замечание, но ничего не сказала. Вместо этого она удалилась вместе с другими женщинами на кухню на чашку чаю.
Малер выждал, пока двойные двери захлопнулись за ними, затем испустил вздох облегчения.
— Иногда мужчине требуется побыть одному.
Вертен улыбнулся на это замечание, поскольку сам иногда испытывал подобное желание.
— Садитесь, садитесь. — Малер помахал здоровой рукой в сторону кресла. — По вашей озабоченной физиономии, Вертен, я предполагаю, вы считаете, что это последнее падение является очередным покушением на мою жизнь.
— Эта мысль уже промелькнула в моей голове.
— Чушь. Хотя это интересно. Полагаю, вы знакомы с историей музыки, не так ли?
— В некотором роде.
— Вы, конечно, припоминаете печальные события 1870 года? Это было за пять лет до того, как я поступил сюда в консерваторию, но даже в этом захолустье в Иглау, где я вырос, мы слышали о трагедии, которая постигла Йозефа Штрауса, талантливого брата Иоганна и Эдуарда.
Теперь Вертен вспомнил этот случай. Штраус на гастролях в Польше упал со своего помоста и вскоре после этого скончался. Эта смерть была окружена завесой таинственности, поскольку вдова не дала разрешения на произведение вскрытия. Осталось неизвестным, то ли композитор умер от травм, полученных при падении, то ли у него были увечья или заболевания до того.
— Вы ведь, конечно же, не проводите сравнение между этими двумя случаями? — возразил Вертен. — Нет указаний на то, что тогда помост был неисправен.
— А в этом случае он был неисправен? — задал вопрос Малер. — Известно, что я подвержен головокружениям. Иногда высоко в горах меня охватывает такой восторг от окружающего пейзажа, что я совершенно забываю себя.
— Вы говорите, что вы просто могли упасть с помоста. То есть, что он фактически не сломался под вами.
— В какой-то момент я дирижировал музыкой Вагнера, а в следующий растянулся на спине в оркестровой яме, таращась на белые голени Арнольда Розе, моего первого скрипача, когда он метался надо мной, а его брюки болтались вокруг лодыжек.
— Он первый подбежал к вам?
— Успокойтесь, Вертен. Этот человек надеется стать моим свояком. Попытка умертвить меня вряд ли обеспечит ему место в сердце Жюстины.
Вертен почувствовал в себе растущее раздражение на рыцарский ответ Малера по поводу последнего события.
— Существует обширная история странных смертей музыкантов, Вертен, ни одна из которых не была отнесена на счет гнусных интриг. Например, возьмите этого несчастного Жана-Батиста Люлли.[32] Думаете, мое падение с помоста было чем-то ужасным? Месье Люлли, по французской моде того времени, отбивал ритм музыки из-за кулис, пользуясь большой тростью. Однажды вечером, дирижируя таким образом, он проколол себе ногу и вскоре скончался от гангрены.
Малер захихикал себе под нос.
Вертен уже был сыт по горло.
— Он исчез. Вот в чем еще одна проблема.
Малер очнулся от своих юмористических мечтаний.
— Что исчезло?
— Помост. Мастер сцены говорит, что теперь он уже превратился в щепки, так что невозможно установить, не было ли ему нанесено повреждение.
Малер на некоторое время задумался. Затем произнес:
— Вы говорите, что это — одна проблема, подразумевая другие.
— Рабочий сцены, предположительно ответственный за падение противопожарного занавеса, больше не служит в Придворной опере.
— Я и не хотел бы, чтобы этот вредитель оставался там.
— Похоже на то, что его нет и в Австрии. По слухам, он эмигрировал в Америку.
Малер опять помолчал.
— А он тоже был виноват в падении декорации?
Теперь Вертен понял, что не спросил об этом мастера сцены.
— Возможно, — уклончиво сказал он, прикрывая свою собственную ошибку.
— А окрашенный ромашковый чай?
На это Вертен просто пожал плечами.
— Вы сами перечислили четыре опасных, возможно, угрожающих жизни инцидента, тем не менее вы продолжаете шутить по этому поводу, — заявил он. — И вы считаете это должным ответом? Почему вы вызвали меня сегодня?
Малер в ответ широко улыбнулся:
— Мое пересмотренное завещание, вы не забыли о нем?
— В воскресенье?
Малер кивнул своей головой, резко выделявшейся на белой наволочке подушки.
— Хорошо. Да, я чувствую некоторую озабоченность. В особенности когда вы теперь упоминаете помост, который почему-то исчез.
Вертен ничего не сказал, вынуждая Малера самого произнести это:
— Тогда прекрасно. Расследуйте, черт вас побери.
— Почему он так упрям? — поразилась Берта, когда они шли назад к Йосифштедтерштрассе, к своему дому.
— Он просто отказывается верить, что работает бок о бок с кем-то, кто желает ему смерти. Я согласен, что это леденящая мысль, не из тех, которую хочется обдумывать.
— Зачем ограничивать расследование?
— Что ты имеешь в виду? — спросил Вертен. Они опять приближались к Рингштрассе. Мимо пронесся трамвай, недавно электрифицированный,[33] рассыпая искры от своей дуги.
— Ты говоришь, что Малер может работать рядом с кем-то, кто желает его смерти. Нет ли вероятности, что это связано с его домашним кругом?
— Ты имеешь в виду его сестру?
— Почему бы нет? Или брошенная любовница?
— И кто же это может быть?
— Мне оказалось достаточно всего лишь полчашки чаю, чтобы увидеть, как безнадежно Натали Бауэр-Лехнер влюблена в Малера. И понять из замечаний Жюстины Малер, что у нее нет ни малейшего шанса когда-либо стать его женой.
— Счастливый маленький семейный очаг.
Берта выгнула свои брови.
— Они кружатся вокруг него, как осы. — И жена плотнее прижала свою руку к его руке.
Через четверть часа они добрались до дома, уставшие после насыщенного событиями дня. Вертен помышлял о горячей ванне, вероятно, стаканчике шерри[34] перед ужином и возможности еще немного почитать. Затем уютный вечер с женой дома и ранний отход ко сну. Мысль об этом согрела внезапным теплом его чресла. Он был счастливым человеком.
Когда они вошли в квартиру, фрау Блачки чуть ли не бегом выскочила им навстречу, понизив голос почти до шепота:
— Я сказала ему, что вы изволите отсутствовать, но он настоял на том, что будет ждать вас. Сидит здесь уже несколько часов. И два раза откушал.
Вертен только собрался спросить у нее, кем же может быть этот таинственный посетитель, когда из гостиной загремел знакомый голос:
— Вертен, друг любезный, где вас носило целый день?
Этот зычный голос принадлежал не кому-либо еще, а доктору Гансу Гроссу, старому другу и коллеге Вертена и лучшему «криминалисту» — как Гросс сам видел себя — в империи.
— Меня совершенно не беспокоит, если я в жизни больше не увижу ни одного бука, — заявил Гросс, отрезая кусок вареной говядины под соусом из хрена, которую поставила перед ним фрау Блачки. — Именно от него произошло название местности, Буковина — земля буковых рощ.
В прошлом году Гросса отрядили в Университет Франца-Иосифа в столице Буковины, Черновцах, чтобы открыть первое отделение криминологии в Австро-Венгрии, — окончательное признание многих лет его исследований и письменных трудов в той области, которую он любил называть криминалистикой. На лето университет закрылся, и Гросс приехал в Вену на конференцию в университете, а его жена Адель гостила в Париже у друзей.
— Боже мой, — пробурчал он, тщательно пережевывая мясо, — даже улицы этой так называемой столицы обсажены этими отвратительными вездесущими представителями лесной флоры.
— Но я слышал, — промолвил Вертен, подмигнув Берте, — что это вполне привлекательный город.
Гросс положил вилку и нож и бросил уничтожающий взгляд на адвоката:
— Мой дорогой Вертен, я знаю вас много лет и поэтому не буду введен в заблуждение вашим ошибочным невинным замечанием. Достаточно сказать, что назвать подобное захолустье городом уже оказало бы дурную услугу языку. Это — пыльное и грязное скопление ветхих домишек, многим из которых внешне придан вид австрийских строений, но по большей части они представляют собой истинную потемкинскую деревню. Их фасады могут иметь вид многоэтажных зданий, но за ними прячется один, в лучшем случае два грязных, убогих этажа. Такой обман произвел бы впечатление даже на Екатерину Великую.