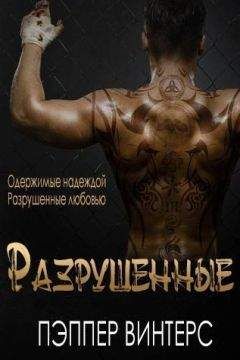есть, протекцию окажут, он уже списался кое с кем. По весне прощаться будем.
Светлана Васильевна достала из рукава кружевной платочек и аккуратно прижала его к лицу.
— Полноте, Света, ну чего ты? — посочувствовал Исидор Игнатьевич. — Не всё же ему в сыщиках ходить. Возраст уже, не мальчишка, поди. — И пожаловался Аннушке: — И каждый раз вот так. Говорю же ей: все так, не один же он. О будущем надо думать.
Слушая его, есаул удивился сам себе: «Господи, ведь не сразу же Корф стал жёстким, волевым, я ведь его только сейчас вижу таким. Постарел он, что ли? Или семья нас всех такими делает? Упаси бог! Размяк Исидор Игнатьевич, точно, как Семён Иванович».
Грустные мысли его прервал Александр. Оценив ситуацию, он сразу же свернул в погреб.
— Ребята! — прервал он разговор. — Поговорим за столом, успеется!
И стал выгружать на стол банки, бутылки, пахучий окорок.
— Так ведь и мы пришли не с голыми руками! — спохватилась Светлана Васильевна. — Евгений Иванович, Аня, я ведь и напекла всего, и наливочки на травках принесла здоровье поправлять.
— Ну так и приступим, чего ж мы ждём?! Вроде все в сборе! — подытожил Александр.
Все дружно засмеялись, задвигали стульями.
— Господа, позвольте одарить вас тостом! — поднял стопку Александр и сделал паузу.
Все затихли в ожидании.
— А впрочем, не сейчас, а то ведь «Зубровочка»-то остынет!
Засмеялся даже привыкший к его шуткам есаул. Посидев за столом, мужчины перешли на диван и кресла, а женщины, заманив Димку конфетами, чтобы не мешал, ушли на кухню. Малыш, должно быть, смущённый присутствием незнакомых людей, пролежавший весь вечер в углу, за большой бочкой с фикусом, подошёл к Александру и улёгся у его ног.
— Красивая собака! — заметил Корф. — Где-то я видел такую же. Тот же окрас…
«Не надо, Исидор Игнатьевич, не надо, зачем оно тебе?» — тревожно подумал Зорич. Исидор Игнатьевич задумался, наверняка ища что-то в себе, и, не найдя, сменил тему:
— Александр Петрович, а что, неужто не тянет сюда, на родину?
Александр, теребивший за уши Малыша, выпрямился. Ответил не сразу, забежав издалека:
— Представь себе, Исидор Игнатьевич, сижу я на веранде, прячусь от жары, всё вокруг слепит солнцем, потный, мокрый, пью какие-нибудь лимонады, а думаю знаешь о чём?.. На кой хрен мне вся эта фанаберия напомаженная?! Закрою глаза и вижу пасмурное небо, шевелящуюся от ветра степь. Лошадки шлёпают по грязи, колёса прыгают из ямы в колдобину, совсем рядом, руку протянуть, тоненькая берёзка, согнутая, с голыми ветвями, с которых холодный ветер последний листик сдул. А вдоль берущей за сердце сиротливого вида дороги копошится в стерне вороньё и кружит, носимое ветром туда-сюда, натужно каркает. И деревенька очередная в каких-нибудь два десятка маленьких, под соломой, домов с дымящими трубами. А рядом, на пригорке, окружённое то ли вишенником, то ли рябинником маленькое кладбище, безнадёжное, с деревянными крестами… И будто видишь всё это воочию и тоску безнадёжную чувствуешь от доли нашей российской. Нет ведь Гольфстрима у нас, а вот льда и снега вдосталь. Но с кем бы ни говорил я там, с людьми в достатке, обеспеченными, у всех тоска по России нашей.
— А Анна как, каково ей там?
Евгений Иванович, внимательно слушавший, посмотрел на брата.
— Анна? Совсем покой потеряла и всё меня теребила, поедем, мол, домой, так и говорила: домой. Я ей: подождём до весны, когда там снег сойдёт, подснежники из-под листьев вылезут, ручейки наперегонки побегут, да и Дима подрастёт. Отговаривал. А когда твоё письмо до нас дошло…
Зорич прикусил губу.
— …Так словно с цепи сорвалась: «Не поедешь — так я одна уеду завтра же, измаялась я вся, ночей не сплю, чувствую — худо ему там, Евгению» — и заплакала.
У есаула в горле запершило, глаза повлажнели. «Спасибо тебе, дружище Исидор Игнатьевич, век не забуду», — подумалось.
Замолчали надолго, в себе замкнулись. Малыш подошёл к Павлу, подняв голову, посмотрел ему в лицо, а тот, растроганный, хотел что-то сказать, но не рискнул тишину нарушать, погладил большую голову.
— Да! — философски заключил Корф. — От себя не убежишь, тело-то — оно там, а душа — она навсегда тут, на Родине!
Глава тридцать пятая
Неделей позже после Покрова Евгений Иванович, зайдя поутру в кабинет, услышал внизу, во дворе, шум какого-то движения. Подойдя к окну, есаул с удивлением увидел снующих казаков. Что-то стряслось — и распахнул створку.
— Иван! Заглобин!
Иван с седлом в руках поднял голову.
— Здравия желаю, Евгений Иванович!
— Что случилось?
— Фрол Иванович пошёл к вам, а я ж не могу вот так, через окно.
И заспешил дальше. «Ох и распустил же я вас, — усмехнулся есаул, — никакой тебе субординации, просто башибузуки, ей-богу!»
— Да, да, можно, заходи! — крикнул, услышав стук в дверь.
Толкнув перед собой долговязого паренька в распахнутой на груди шубейке, вошёл Фрол Иванович. Вот оно значит что, сжал зубы Зорич.
— Янек вот прискакал, ну, рассказывай! — Фрол Иванович подтолкнул парня ближе к столу.
— Здравствуйте, господин начальник! — поклонился вежливый Янек. — Вышел я ночью, ближе к утру, во двор. Смотрю, во дворе Нарочицких, они от нас рядом совсем, свет горит и люди какие-то ходят. Разбудил я Яцека, да чуть не опоздали, догнали в дороге уже. Шли крадучись.
О Нарочицких плохая слава у нас. Приехали они два года всего, отстроили большой дом, пасека у них, скота много и лесопильня. Дровами торгуют…
— Янек, ну куда ты свернул? — сконфузился за парня Фрол Иванович: как ни говори, а вроде не чужой как бы. — Дело говори, дело!
— Так а я ж о чём? — удивился парень. — О нём самом.
— Сколько их? — разрядил ситуацию Евгений Иванович.
— Восьмеро! Двое, как ни крути, чужие! Две повозки у них, битюгами ихними запряжённые. Так вот, мы, значит, за ними. Крались издалека, не дай бог, увидят — убьют! Ехали по дороге к эстонцам, наверное, с час. Свернули к тростникам у первых больших