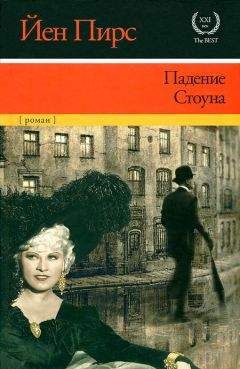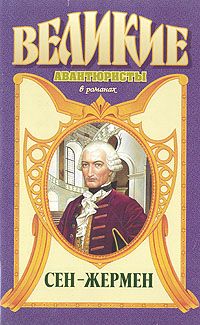— Ты написал о Рейвенсклиффе, когда он умер?
Он что-то буркнул себе под нос. Намерен ли я указать на ошибку? Предложить дополнительную информацию? Будет ли ответ ему на пользу или во вред? Он пока еще не определил.
— Да, — сказал он.
— Скажи-ка мне. История старая, ты ничего не потеряешь. И можешь приобрести кое-что на будущее.
Его глаза сощурились.
— Что?
— То, что я узнаю. Ты слышал, что я ушел из газеты?
Он не слышал. Я почувствовал себя слегка оскорбленным. Как я говорю, мы компания сплетников. Учтите, я не льстил себя мыслью, что мой уход займет ведущее место среди интересных анекдотцев, но я ожидал, что про это заговорят быстрее.
— Да. И что бы я ни разыскал, писать я про это не буду. Понимаешь?
Он кивнул.
— Отлично. Я хочу знать, почему ушло трое суток, прежде чем о смерти Рейвенсклиффа сообщили газеты?
— Потому что полиция раньше никому о ней не упомянула.
Я нахмурился.
— Но почему?
— Полагаю, так пожелала семья. Они так делают, эти люди. Просят полицию. Полиция подчиняется.
Надо будет спросить вдову Рейвенсклиффа при следующей встрече.
— Откуда ты это знаешь?
Очень просто. По его словам, он зашел в участок на Боу-стрит в половине десятого утра, как всегда. Его последний заход в тот день. Он жил в самой глубине Ист-Энда, начинал с полицейских участков в Сити приблизительно в пять утра и добирался на своем велосипеде до западных районов примерно в то же время, когда я направлялся на восток, чтобы приняться за работу.
— Обычно они дают мне регистрационную книгу и позволяют посмотреть записи. Затем я спрашиваю про то, что меня заинтересовало, и они кратко излагают суть. Достаточно просто. Ну, да ты сам знаешь.
Я кивнул.
— Только не в то утро. Дежурила волосатая свекла.
Достаточно хорошее описание. Сержант Уилкинс весил заметно больше двухсот пятидесяти фунтов, а цвет его лица колебался между багровостью его щек и лиловостью кончика носа. Даже просто вставая, он пыхтел от натуги, а обход улиц был настолько выше его возможностей, что сочувствующие коллеги давным-давно усадили его за стол дежурного. По правилам, его надлежало уволить как непригодного к службе, но полиция всегда опекает своих. Уилкинс был своего рода святым и нравился всем, даже преступникам, чьи дела он протоколировал изо дня в день. И вид у него был такой, словно каждое преступление для него было личным разочарованием. При нормальных обстоятельствах более благожелательного и услужливого человека трудно было бы найти.
Однако в то утро Уилкинс отказался дать ему регистрационную книгу и только сам прочел пару записей. «Сегодня больше ничего», — сказал он благодушно. Когда через несколько минут в участок за ноги втащили орущего, сопротивляющегося, распевающего пьянчугу и Уилкинс пропыхтел к двери поглядеть, что происходит, Хозвицки молниеносно повернул книгу и заглянул в нее. В его распоряжении было только несколько секунд, но и их оказалось достаточно: «2.45:379 на Сент-Джеймс-сквер. Обнаружен труп. Сообщить мистеру Генри Корту. Ф. О.»
— Что сообщить?
Хозвицки пожал плечами.
— Генри Корт?
Еще одно пожатие плеч.
— Ф. О.?
Он снова пожал плечами. Раздражающая привычка.
— Так почему никакой заметки?
— Я заинтересовался, а потому направился в морг, и там это подтвердили. Из больницы на Чаринг-Кросс доставили тело, опознанное как Рейвенсклифф. Я вернулся в редакцию и начал писать. Просто предварительный репортаж, поскольку я собирался сдать его, а потом снова отправиться собрать еще информации. Кроме того, я сообщил редактору, чтобы он мог подготовить некролог.
— И?
— И больше ничего. Я вернулся на Сент-Джеймс-сквер постучать в соседние двери (тут я поморщился: Хозвицки нравилась такая вот вульгарность в его репортажах), но прежде чем я успел туда добраться, меня нагнал рассыльный и сказал, что меня ждут в редакции.
Такое случается. Случалось и со мной — не так уж редко. У всех газет были тогда рассыльные, компании мальчишек, которые толпились у главного входа в надежде заработать пенни-другой, доставляя вести. Часто это были незаурядные ребята — грязные и нахальные, но самые лучшие отличались особыми способностями и Лондон знали как свои пять пальцев. Они пересекали город с потрясающей быстротой, повиснув на омнибусе сзади, а то и бегом. Однажды я даже видел, как такой рассыльный катил по Оксфорд-стрит на крыше кеба, нагло помахивая руками прохожим.
— И я вернулся, — продолжал Хозвицки, — и получил головомойку от дневного редактора. Нечего мне тратить время на смерть человека настолько глупого, что он выпал из окна, э? Кто-то потолковал с ним об этом.
— Ты знаешь кто?
— Я сумел узнать только, что за два часа перед тем в редакцию приехал весьма респектабельного вида мужчина и разговаривал с ним полчаса. Даже моя краткая заметка о смерти Рейвенсклиффа была тогда изъята из номера, а через десять минут после его ухода был отправлен рассыльный. История была прихлопнута, а когда появилась, написал ее не я.
— А кто?
Он покачал головой.
— Никто из работающих в «Телеграф», — сказал он. — Позднее я спросил редактора, но он отмахнулся. «Иногда просто делаешь, что тебе говорят», — сказал он. Но думаю, он подразумевал и себя, а не только меня.
Я допил пиво и задумался над услышанным. Я был уверен, что Хозвицки говорит правду: он выглядел прямо-таки обрадованным, что может поделиться своим негодованием. Редакторы, естественно, люди неустойчивые. Они выбрасывают репортажи из чистого каприза, или оказывая личную услугу, или из-за владельцев газеты. Это происходит сплошь и рядом. Но обычно понимаешь почему, хоть и не одобряешь. Но зачем изымать простой репортаж о случившемся?
— Погоди минуту, — сказал Хозвицки. — Что я получу взамен?
— Пока ничего, — сказал я бодро. — Кроме моих «спасибо».
Он насупился.
— И моего обещания, что, когда у меня появится что-то, чтобы дать взамен, ты этот материал получишь.
Я кивнул ему и ушел, поднявшись по окутанной смрадом лестнице на открытый воздух Флит-стрит, такой свежий после этого замызганного подвала, что у меня даже голова закружилась.
Мне хотелось вскочить в омнибус и поехать прямо на Сент-Джеймс-сквер задать вопросы леди Рейвенсклифф. Их для нее у меня накопилось немало. Но было уже шесть, а я договорился встретиться с Франклином. К семи я был в Челси, готовый взяться за дело. К несчастью, Франклин ел медленно, жевал методично. Обычно это меня не трогало, но в тот вечер его манера довела меня до исступления.
Наша вечерняя рутина была неизменной. Около семи часов все четверо «мальчиков» миссис Моррисон собирались в маленькой обеденной комнате, темной и мрачной, освещенной только пыхающим газовым рожком, а затем полязгивание сковородок и кастрюль достигало крещендо, возвещая начало нашего вечернего пирования. Разговоры за этими трапезами менялись, то оживленные, то вообще не завязавшиеся. Порой мы обедали en grand seigneur[2] и потом засиживались за чаем. Я всегда мог завоевать слушателей, живописуя новейшее убийство. Брок немедля претендовал на внимание рассказом о встрече с художниками, с которыми знаком не был. Мулреди мог прогнать всех из-за стола, задекламировав стихи экспериментального рода. Только Франклин почти не нарушал молчания, поскольку никого не интересовали изменения рыночных курсов или выпуск южноамериканских ценных бумаг, пусть даже цена купона могла быть назначена значительно ниже номинала. Он говорил на языке, куда более иностранном, чем преступники, художники и поэты, причем ни у кого не вызывавшем желания подучиться ему.
Обед в этот вечер состоял из бараньей котлеты каждому, картофеля и (особое баловство) брюссельской капусты вместо простой, хотя к тому времени, когда они попадали на стол, различий между ними не оставалось никаких. Затем пудинг из маниока, вызвавший взрыв аплодисментов артистических натур, чьи детские вкусы были, пожалуй, определяющей частью их жизней. Разговор не был оживленным. Брок хотел бы завести дискуссию, будет ли война с Германией или нет, и полагал, что я как репортер должен святым духом знать, что думают по этому вопросу в министерстве иностранных дел.
Им двигала не абстрактная озабоченность судьбами нации, хотя, как оказалось, интересовался он не зря. Потому что война сделала его, когда началась. Он стал военным художником, и то, что он видел, настолько изменило манеру его письма, что это выдвинуло его в авангард нового поколения, которое вышло на первый план с окончанием войны. Серая унылость Брока, делавшая его неудобоваримым в солнечные дни, войне предшествовавшие, идеально гармонировала с настроениями, преобладавшими во время нее, и раскрыла прозрачную четкость, которая не давалась ему, пока он жил с нами в Челси.