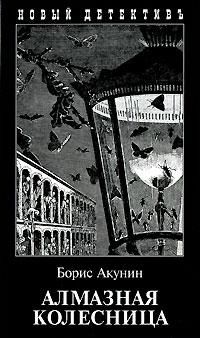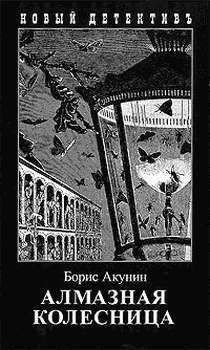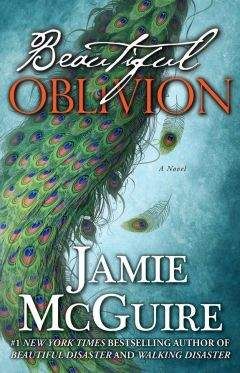А как же Брюнет, пассажир из шестого купе, столь подозрительным манером скрывшийся с места катастрофы?
Да очень просто, ответил сам себе инженер. В Петербурге третьего дня совершено дерзкое ограбление, о котором взахлёб писали все газеты. Неизвестный в маске остановил карету графини Воронцовой, обобрал её сиятельство до нитки и оставил на дороге голой, в одной шляпке. Пикантность в том, что именно в тот вечер графиня поссорилась с мужем и переезжала в родительский дом, тайком прихватив с собой все драгоценности. То-то Лисицкий рассказывал, что обитатели дачи называли Брюнета «лихой башкой» — и в Питере дело провернул, и к московской акции поспел.
Если б не горькое разочарование, не досада на самого себя, Эраст Петрович вряд ли стал бы вмешиваться в уголовщину, но злость требовала выхода — да и ночного сторожа было жалко, не прирезали бы.
— Брать, когда станут выходить, — шепнул он слуге. — Одного ты, одного я.
Маса кивнул и облизнулся. Но судьба распорядилась иначе.
— Панове, шухер! — отчаянно крикнул кто-то — должно быть, увидел за стеклом две тени.
В ту же секунду ацетиленовое сияние погасло, вместо него из кромешной тьмы грохнул багровый выстрел.
Фандорин и японец с идеальной синхронностью отпрыгнули в разные стороны. Витрина рассыпалась с оглушительным звоном.
Из магазина стреляли ещё, но теперь уж вовсе впустую.
— Кто выпрыгнет — твои, — скороговоркой бросил инженер.
Пригнувшись, ловко перекатился через засыпанный осколками подоконник и растворился в чёрных недрах магазина.
Там орали, матерились по-русски и по-польски, доносились звуки коротких, хлёстких ударов, а по временам помещение озарялось вспышками выстрелов.
Вот из двери, вжав голову в плечи, вылетел человек в клетчатой кепке. Маса сделал ему подсечку, припечатал беглеца ударом пониже затылка. Проворно связал, оттащил к пролёткам, где уже лежал придушенный инженером возница.
Вскоре из витрины выпрыгнул ещё один и, не оглядываясь, кинулся наутёк. Японец без труда догнал его, схватил за кисть и легонько повернул — налётчик, взвизгнув, скрючился.
— Чихо, чихо, — уговаривал пленника Маса, быстро прикручивая ему ремнём запястья к щиколоткам.
Перенёс к тем двоим, вернулся на исходную позицию.
В магазине уже не шумели. Послышался голос Фандорина:
— Один, два, три, четыре… где же пятый… ах, вот — пять. Маса, у тебя сколько?
— Три.
— Сходится.
Из ощеренного стеклянными зазубринами прямоугольника высунулся Эраст Петрович.
— Беги на склад, приведи жандармов. Да поживей, а то эти очухаются, и снова з-здорово.
Слуга убежал в сторону Ново-Басманной.
Фандорин же распутал сторожа, немножко похлопал по щекам, чтобы привести в разум. Но сторож в разум приходить не хотел — мычал, жмурился, трясся в сухой икоте. По-медицински это называлось «шок».
Пока Эраст Петрович тёр ему виски, пока нащупывал нервный узел пониже ключицы, начали шевелиться оглушённые налётчики.
Один бугаище, всего пять минут назад получивший отменный удар ботинком в подбородок, сел на полу, замотал башкой. Пришлось оставить икающего сторожа, отвесить воскресшему добавки.
Едва тот ткнулся носом в пол, пришёл в себя другой — встал на четвереньки и шустро пополз к выходу. Эраст Петрович кинулся за ним, оглушил.
В углу копошился третий, а на улице, где Маса разложил свою икэбану, тоже происходил непорядок: в свете фонаря было видно, как кучер зубами пытается развязать узел на локтях у подельника.
Фандорин подумал, что похож сейчас на клоуна в цирке, который подбросил вверх несколько шариков и теперь не знает, как со всеми ними управиться — пока подберёшь с пола один, сыплются другие.
Бросился в угол. Темноволосый бандит (уж не тот ли самый Юзек?) не только очнулся, но и успел достать нож. Удар, для верности ещё один. Лёг.
И со всех ног к пролёткам — пока те трое не расползлись.
Черт, куда же провалился Маса?
* * *
Но фандоринский камердинер так и не добрался до подполковника Данилова, беспомощно топтавшегося со своими людьми у дома Варваринского общества.
На первом же углу ему под ноги бросился юркий человечек, ещё двое навалились сверху, заломили руки. Маса рычал и даже пытался кусаться, но скрутили его крепко, профессионально.
— Евстратьпалыч! Один есть! Китаеза! Говори, ходя, где пальба?
Масу дёрнули за косу — с головы слетел парик.
— Ряженый! — торжествующе закричал тот же голос. — А рожа косоглазая, японская! Шпион, Евстратьпалыч!
Подошёл ещё один, в шляпе-котелке. Похвалил:
— Молодцы.
Нагнулся к Масе:
— Здравия желаю, ваше японское благородие. Я надворный советник Мыльников, особый отдел Департамента полиции. Каково ваше имя, звание?
Задержанный попытался злобно лягнуть надворного советника в голень, но не преуспел. Тогда шипяще заругался по-чужестранному.
— Что уж браниться, — укорил его Евстратий Павлович, держась на расстоянии. — Попались — не чирикайте. Вы, должно быть, офицер японского генерального штаба, дворянин? Я тоже дворянин. Давайте уж честь по чести. Что вы тут затеяли? Что за стрельба, что за беготня? Посвети-ка мне, Касаткин.
В жёлтом круге электрического света возникла перекошенная от ярости узкоглазая физиономия, блестящий ёжик коротко стриженных волос.
Мыльников растерянно пролепетал:
— Это же… Здрасьте, господин Маса…
— Скорько рет скорько зим, — прошипел фандоринский камердинер.
Слог третий, в котором Рыбников попадает в переплёт
Все последние месяцы Василий Александрович Рыбников (ныне Стэн), жил лихорадочной, нервической жизнью, переделывая сотню дел за день и отводя на сон не более двух часов (которых ему, впрочем, совершенно хватало — просыпался он всегда свежим, как огурчик). Но поздравительная телеграмма, полученная им наутро после крушения на Тезоименитском мосту, освобождала бывшего штабс-капитана от рутинной работы, позволив целиком сосредоточиться на двух главных заданиях, или, как он про себя их называл, «проэктах».
Всё, что необходимо было сделать на предварительной стадии, новоиспечённый корреспондент Рейтера исполнил в два первые дня.
Для подготовки главного «проэкта» (речь шла о передаче крупной партии некоего товара) достаточно было всего лишь отправить получателю с легкомысленной кличкой Дрозд письмо внутригородской почтой — мол, ждите поставку в течение одной-двух недель, всё прочее согласно договорённости.
По второму «проэкту», второстепенному, но все равно очень большого значения, хлопот тоже было немного. Кроме уже поминавшихся телеграмм в Самару и Красноярск, Василий Александрович заказал в стеклодувной мастерской две тонкие спиральки по представленному им чертежу, доверительно шепнув приёмщику, что это детали спиртоочистительного аппарата для домашнего употребления.
По инерции или, так сказать, в pendant суетливой питерской жизни, ещё денька два-три Рыбников побегал по московским военным учреждениям, где корреспондентская карточка обеспечивала ему доступ к разным осведомлённым лицам — известно ведь, как у нас любят иностранную прессу. Самозваный репортёр узнал много любопытных и даже полуконфиденциальных сведений, которые, будучи сопоставлены и проанализированы, превращались в сведения уже совершенно конфиденциальные. Однако затем Рыбников спохватился и всякое интервьюирование прекратил. По сравнению с важностью порученных ему «проэктов», всё это была мелочь, из-за которой не стоило рисковать.
Усилием воли Василий Александрович подавил зуд активной деятельности, выработанный долгой привычкой, и заставил себя побольше времени проводить дома. Терпеливость и умение пребывать в неподвижности — тяжкое испытание для человека, который привык ни минуты не сидеть на месте, но Рыбников и тут проявил себя молодцом.
Из человека энергического он мигом превратился в сибарита, часами просиживающего в кресле у окна и разгуливающего по квартире в халате. Новый ритм его жизни отлично совпал с распорядком весёлых обитательниц «Сен-Санса», которые просыпались к полудню и часов до семи вечера разгуливали по дому в папильотках и шлёпанцах. Василий Александрович в два счета наладил с девушками чудесные отношения.
В первый день барышни ещё дичились нового жильца и оттого строили ему глазки, но очень скоро распространился слух, что это Беатрискин дуся, и лирические поползновения сразу прекратились. На второй день «Васенька» уже стал всеобщим любимцем. Он угощал девиц конфектами, с интересом выслушивал их враньё, да к тому же ещё и бренчал на пианино, распевая чувствительные романсы приятным, немножко слащавым тенором.