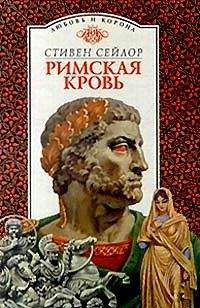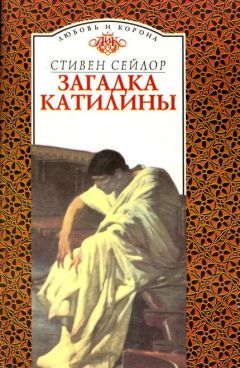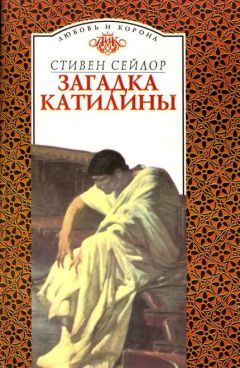— Конечно, Цицерон. — Выходя этим утром из дома, я совсем не ожидал, что буду вращаться среди высшей знати, к которой принадлежали Метеллы и Мессалы. Я окинул взглядом свою одежду — простую тогу гражданина поверх скромной туники. Единственным пурпурным пятном на моей тоге был след от вина возле самой кромки. По словам Бетесды, она потратила немало часов на безуспешные попытки его удалить.
Когда мы достигли вершины, даже Тирон выглядел утомленным. Его черные кудри прилипли ко лбу, лицо раскраснелось от усталости, или, скорее, от возбуждения. Я еще раз подивился той охоте, с какой он стремился попасть в дом Цецилии Метеллы.
— Вот он, — пропыхтел Цицерон и смолк, чтобы перевести дыхание. Перед нами высился длинный, покрытый розовой штукатуркой дом, который был окружен древними дубами. Вход был осенен портиком; по его краям стояли двое солдат в шлемах, в полном боевом снаряжении с мечами на ремнях и копьями в кулаках. Седеющие ветераны Суллы, подумал я и вздрогнул.
— Стража, — сказал Цицерон, делая неопределенный жест рукой, пока мы поднимались по ступенькам. — Не обращай внимания. Они, должно быть, умирают от жары во всей этой коже. Тирон!
Тирон, увлеченно разглядывавший амуницию стражников, проскочил перед хозяином, чтобы постучать в тяжелую дубовую дверь. Прошло немало времени, пока мы стояли, затаив дыхание и сняв шляпы, под покровом тенистого портика.
Неслышно повернувшись на петлях, дверь открылась внутрь. На нас повеяло приветливой прохладой и запахом ладана.
Тирон и раб-привратник обменялись обычными любезностями («Мой господин пришел повидать твою госпожу»), затем мы еще немного подождали, пока из прихожей не вышел раб, чтобы препроводить нас в дом. Он взял у нас шляпы и ушел звать другого раба, который объявит хозяйке о нашем приходе. Я посмотрел через плечо на привратника, который сидел на скамейке рядом со входом, занятый каким-то рукодельем; его ноги были прикованы к стене цепью достаточно длинной, чтобы он мог подходить к двери.
Вошел раб, который должен был проводить нас к госпоже; он был явно разочарован, найдя в прихожей Цицерона, а не какого-нибудь униженного клиента, из которого он мог бы выжать несколько динариев, прежде чем позволить ему пройти дальше в дом. По незначительным признакам — высокому голосу, видимой припухлости груди — я понял, что перед нами евнух. Если на Востоке они — незаменимая и древняя часть общественной ткани, то в Риме кастраты — редкость, и на них взирают с нескрываемым отвращением. Цицерон говорил, что Цецилия — адепт восточных культов, но держать евнуха в своем доме — вот уж воистину диковинная жеманность.
Мы последовали за ним через атрий и поднялись по мраморным ступеням. Раб отогнул занавеску, и вслед за Цицероном я очутился в комнате, которая была бы вполне уместна в дорогом александрийском борделе.
Казалось, мы вступили в высокий, переполненный декорациями шатер, обитый ворсом, заваленный подушками, весь увешанный коврами и портьерами. Медные светильники свисали со стоявших по углам жаровен, источая тонкие струйки дыма. Именно отсюда запах ладана разносился по всему дому. Я с трудом мог дышать. Здесь сжигались самые разные пряности без разбора — без учета их свойств и необходимых пропорций. От грубой смеси запахов фимиама и сандалового дерева кружилась голова. Ни одна египетская домохозяйка не совершила бы такой глупости.
— Госпожа! Достопочтенный Марк Туллий Цицерон, адвокат, — высоким голосом прошептал евнух и быстро удалился.
Хозяйка возлежала в дальнем конце комнаты среди наваленных на пол подушек. Ей прислуживали две коленопреклоненные рабыни. Рабыни были одетыми на египетский лад смуглянками в прозрачных платьях и с густым слоем краски на лицах. Над ними, занимая господствующее положение в комнате, возвышался предмет, перед которым простерлась ниц Цецилия.
Я никогда не видел ничего похожего. Вне всяких сомнений, то была статуя одной из восточных богинь земли — Кибелы, Астарты или Исиды, хотя никогда прежде я не видел такого ее воплощения. Высота ее достигала восьми футов[1], так что головой она почти задевала потолок. У нее было суровое, почти мужское лицо; ее венец был сплетен из змей. С первого взгляда я решил, что продолговатые предметы, украшающие ее торс, — это груди, дюжины и дюжины грудей. Присмотревшись пристальнее к тому, как сгруппированы эти округлости, я понял, что это не что иное, как яички. В одной руке богиня держала косу, лезвие которой было выкрашено в ярко-красный цвет.
— Что? — раздался приглушенный голос среди подушек. Цецилия задвигалась. Невольницы взяли ее под руки и помогли ей подняться. Она окинула взглядом комнату и со смятением заметила нас.
— Нет, нет, — завизжала она. — Болван евнух! Вон, вон из комнаты, Цицерон! Вы не должны были входить, вы должны были ждать по ту сторону занавески. Как мог он так глупо ошибиться? Мужчины не допускаются в святилище Богини. Ох, это случилось опять. Что ж, по справедливости, вас следовало бы наказать — принести в жертву или, на худой конец, высечь, но, боюсь, об этом не может быть и речи. Конечно, одного из вас можно было бы высечь за остальных, но я даже не заикаюсь об этом, я знаю, как тебе дорог молодой Тирон. Может быть, этот, второй раб… — Она осеклась, заметив у меня на пальце железное кольцо — примету гражданина. Узнав во мне свободного, она разочарованно всплеснула руками. Ее ногти были необычайно длинны и по-египетски выкрашены хной. — Ох! Думаю, это означает, что мне придется высечь вместо вас одну из несчастных невольниц, как я сделала в тот раз, когда евнух допустил ту же дурацкую оплошность с Руфом. Ох, они такие неженки. Богиня будет очень разгневана!..
— Я не понимаю, как мог он совершить одну и ту же ошибку дважды. Ты думаешь, он делает это намеренно? — Мы оказались в гостиной Цецилии — высоком, длинном зале со световыми люками в потолке и открытыми дверьми в противоположных концах, сквозь которые проникал свежий ветерок. Стены были украшены фресками, изображавшими сад: зеленая трава, деревья, павлины и цветы на стенах, голубое небо над ними. Пол был выложен зеленой плиткой, потолок задрапирован голубой тканью.
— Не нужно, не отвечай. Я знаю, что ты скажешь, Цицерон. Но Ахавзар слишком ценен, чтобы от него избавиться, и слишком изнежен, чтобы его наказывать. Если бы он только не был таким легкомысленным.
Мы сидели вчетвером вокруг серебряного столика, уставленного гранатами и холодной водой: Цицерон, я, Цецилия и молодой Руф, который прибыл раньше нас, но был достаточно умен, чтобы не входить в святилище Метеллы, предпочитая дожидаться в саду. Тирон стоял чуть позади хозяина.
Метелла была крупной, румяной женщиной. Несмотря на возраст, она выглядела весьма крепкой. Каков бы ни был первоначальный цвет ее волос, сейчас они были огненно-рыжими, а под слоем хны, вероятно, седыми. Она носила высокую прическу, завязанную конусообразным узлом, который был закреплен с помощью длинной серебряной булавки. Ее заостренный конец выглядывал наружу; булавочную головку украшал сердолик. Хозяйка носила пышную, дорогую столу и множество драгоценностей. Лицо ее было густо накрашено и нарумянено. Волосы и одежда отдавали густым запахом ладана. В одной руке она держала веер и энергично размахивала им в воздухе, как будто пытаясь распространить свой запах по всей комнате.
Руф тоже был рыжеволос; у юноши были карие глаза, румяные щеки и веснушчатый нос. Как и говорил Цицерон, он был очень молод. Действительно, ему было не больше шестнадцати, потому что он носил одежду, какую носят все дети — как девочки, так и мальчики: белую шерстяную тогу с длинными рукавами, защищающими от похотливых взоров. Через несколько месяцев он наденет мужскую тогу, но сейчас с точки зрения права он все еще остается ребенком. Было очевидно, что он боготворит Цицерона, и не менее очевидно, что Цицерону это нравится.
Оба аристократа не проявляли ни малейших признаков беспокойства, принимая меня за своим столом. Разумеется, они искали моей помощи, чтобы решить проблему, в которой ни он, ни она не имели никакого опыта. Они были со мной почтительны: так с каменщиком обращается сенатор, в чьей спальне вот-вот обрушится потолок. Тирона они не замечали.
Цицерон прокашлялся.
— Цецилия, день очень жаркий. Если мы уже обсудили наше злосчастное вторжение в твое святилище, то не перейти ли нам к более земным материям?
— Конечно, Цицерон. Вы пришли по делу бедняги Секста-младшего.
— Да. Гордиан может оказаться полезным в распутывании всех обстоятельств, пока я готовлю защиту.
— Защиту. О, да. Ох. Я полагаю, они все еще там, эти ужасные стражи. Вы должны были их заметить.
— Боюсь, что да.
— Такая досада. В тот день, когда они появились, я откровенно им заявила, что с этим не примирюсь. Конечно, ничего хорошего это не принесло. Приказ суда, сказали они. Если Секст Росций остановится здесь, он должен находиться под домашним арестом, с воинами у всех дверей, стерегущими его днем и ночью. «Арест? — спросила я. — Как если бы он находился в тюрьме, словно военнопленный или беглый раб? Я знаю законы очень хорошо, и нет такого закона, который позволяет вам удерживать римского гражданина в его собственном доме или в доме его покровительницы. Всегда поступают так: гражданин, которому предъявлено обвинение, всегда может избрать бегство, если он не желает предстать перед судом и добровольно отказывается от своего имущества».