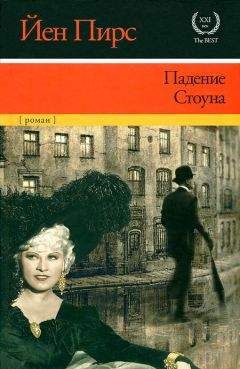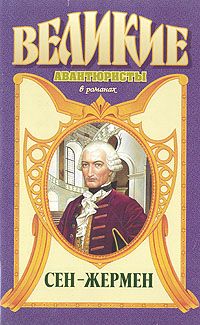— Строить что-либо в таком масштабе, не заручившись финансовой поддержкой Лондона? Подобрать квалифицированную рабочую силу, разбросанную по всей Европе? Убедить компании вроде Кука организовать экскурсии в Венецию с остановкой в вашем отеле?
— Справедливо. Если, конечно, вы способны обеспечить все это. Я по опыту знаю, что англичане иногда обещают больше, чем исполняют.
— Например?
— Мы одолжили значительную сумму англичанину, — сказал он, — который подобно вам обещал всякие чудеса. Но до сих пор ни единого не сотворил.
— Я знаком с мистером Макинтайром, — сказал я. — Если вы подразумеваете его.
— Он мошенник и негодяй.
— Неужели? Я нахожу его прямодушным.
— Отнюдь. Мы узнали, но лишь после того, как он прикарманил наши деньги, что в Венеции он только потому, что будет брошен в тюрьму, если у него хватит дерзости вернуться в Англию.
— Вы меня удивляете. — И сказал я это искренне. Мне было трудно поверить, что мы говорим об одном и том же человеке. Я побился бы об заклад на солидную сумму, что Макинтайр абсолютно честен.
— Видимо, он растратил большие деньги своих нанимателей и сбежал. Не будь он у нас в долгу, мы быстро отправили бы его восвояси.
— Вы в этом уверены?
— Совершенно уверен. Естественно, едва мы узнали об этом, то отказали ему в новых займах, и теперь я серьезно сомневаюсь, что мы когда-либо получим свои деньги обратно. Как видите, предложение незнакомого англичанина…
— Я понимаю. Естественно, сотрудничество между нами потребует полного доверия. Однако я убежден, что без труда сумею рассеять ваши сомнения. А теперь, поскольку речь идет о патриотической гордости, я охотно предлагаю свою помощь в вопросе с Макинтайром. Сколько он вам должен?
— Что-то около пятисот фунтов стерлингов, если не ошибаюсь.
Интересно, подумал я про себя. Я прекрасно знал, что вложил он значительно меньше. Это очень обнадеживало.
— Тут требовалось истинное воображение, должен сказать, — продолжал я. — Мало кто готов пойти на подобный риск.
Он помахал рукой.
— Если его машина будет работать, откроются очевидные возможности. Если же нет, тогда, естественно, ситуация меняется. А постоянные отсрочки и проволочки меня настораживают. И потому…
— …другое предложение другого англичанина не преисполняет ваше сердце радостью.
Он улыбнулся.
— В таком случае, — продолжал я, — я прибегну к наличным, чтобы заслужить ваше доверие. Разрешите мне выкупить долг мистера Макинтайра. Уплатить его от его имени. Если после мы придем к соглашению о проекте с отелем, мы, убежден, сможем тогда обсудить частности. Я не могу допустить, чтобы вы думали, будто все англичане — мошенники и негодяи. Хотя, без сомнения, есть и такие. Если желаете, я мог бы составить соглашение теперь же.
Амброзиан был слишком осторожен, чтобы согласиться. Он выглядел почти шокированным. Ну, не совсем, но у него таки был вид человека, оскорбившегося, что его принимают за простака. Конечно, он не ставил мне в упрек мою попытку; и он прекрасно знал, что я знаю, что моего предложения он не примет.
— Ну, я не могу вас винить, — сказал я с улыбкой, указывающей, что я все прекрасно понимаю. — Тем не менее я заинтересован, и если ваше решение изменится…
Я ушел, глубоко задумавшись. Мое предложение выкупить долг Макинтайра произвело желаемый эффект, размышлял я. Амброзиан был готов отнестись ко мне серьезно. Другое дело, если бы он внезапно его принял. Меньше всего я хотел тратить деньги на машину, которая вполне могла бы оказаться бесполезной. Если так, пусть держится за нее на здоровье. Но если все-таки она заработает, держаться за нее он будет. Если испытания пройдут удачно, он, конечно, откажется вложить новые деньги, подаст на взыскание долга и станет единственным держателем патента. Макинтайр больше не будет иметь к нему никакого отношения, разве что в роли служащего, официального банкрота, вынужденного работать за жалкие гроши.
Жаль, что машина не оказалась полностью безнадежной, думал я. Для Макинтайра это было бы плохо, но по крайней мере у него было бы удовольствие сознавать, что Амброзиан тоже лишился своих денег. Малая компенсация, и я не думал, что она доставит ему особую радость. Так думают только финансисты. Однако…
Это все-таки заставило меня задуматься, и, пока я шел через пьяцца Сан-Марко, я мысленно перебирал все возможности.
Я остановился, улыбаясь ватаге уличных мальчишек, бросавших камешки в воробья на веревке с бельем. Вот именно. Вопрос только в том, как это устроить.
Всякий читающий это может удивиться, почему меня не слишком озаботили настояния Амброзиана, что Макинтайр какого-то рода мошенник. Достаточно часто подобные характеристики оборачиваются помехами для хорошего бизнеса. Однако не всегда; тем более если негодяй не в том положении, чтобы причинить вред лично вам. У меня не было ни малейшего намерения снабдить Макинтайра деньгами, если у меня не будет полного контроля. Он не мог сбежать с тем, чего у него не было. К тому же такие люди бывают очень полезны, если они работают на вас, а не против вас. Прошлая жизнь Ксантоса, например, это совсем не то, о чем бы я хотел знать побольше, хотя, когда он постучал в мою дверь, я потрудился установить, что было бы неразумно отправить его в области, находящиеся под властью султана, поскольку прошло бы долгое время, прежде чем его бы выпустили из тюрьмы. Но теперь его хитрые приемы работают на меня, и он был хорошим и лояльным служащим — до недавнего времени.
Вот почему мнение Амброзиана о Макинтайре меня не слишком встревожило. Однако было бы неверным сказать, будто я не был заинтригован, и я досадовал, что все еще не получил ответа от моего дорогого друга Кардано, которому написал уже довольно давно. До получения его ответа я не мог предпринять ничего существенного. В Венеции я мог найти старые газетные подшивки, кое-какие справочники, и ничего больше. Того сорта информацию, какая мне требовалась, приобрести было можно только в столовых залах и кабинетах лондонского Сити, причем доступна она была только тем, кто знал, как спросить.
А потому мне пришлось ждать, и я раз в жизни стал подлинным туристом и предавался моей все возрастающей страсти. Собственно говоря, еще четыре дня, прежде чем письмо наконец добралось до меня, — четыре сказочных дня, проведенных в осеннем тепле и достаточно часто с Луизой — ведь чем больше свиданий было у меня с ней, тем больше я их жаждал. После происшедшего в салоне маркизы мы отбросили всякую осторожность и скрытность. Я начал покупать ей подарки, мы рука об руку гуляли по городу, нас видели вместе. Это преисполняло меня гордостью и одновременно тревогой. Мне даже как-то пришлось сказать ей, чтобы она была осторожнее с мужем.
— Я теперь уйду от него ради тебя. Теперь, когда я знаю, что значит любить кого-то, я не могу остаться. Мы можем быть вместе вечно, — сказала она и повернулась посмотреть мне в глаза. — Мы можем быть вот так вечно. Только ты и я.
— А твой сын?
Жест отвращения.
— Он может его забрать. Он не мой ребенок. Я просто его родила. В нем нет ничего от меня. Он будет таким же, как его отец, слабым, никчемным.
— Ему же всего четыре.
Она говорила с беспощадностью, какой раньше я в ней не замечал. В ее словах была подлинная жестокость, и они меня встревожили.
Видимо, я среагировал, так как она мгновенно переменилась.
— О, я его люблю, конечно. Но ему от меня нет проку. Я его не понимаю.
Затем она снова обняла меня, и на час мы полностью сменили тему. Однако в тот день я ушел из наших комнат с нехорошим чувством; оно быстро сошло на нет, но полностью не изгладилось.
День этот изменил что-то в нашем общении. Луиза больше не говорила, что оставит мужа, но все чаще и чаще разговор возвращался к ее желанию быть со мной. Я мог понять, почему ее жизнь была адом и почему она так отчаянно искала способа спастись. Я думал о рубцах и порезах, о поведении Корта на сеансе, его галлюцинациях, об унижениях и издевательствах, которые она терпела, когда никто не мог этого видеть. Неудивительно, что она льнула ко мне.
А я был ею одержим. Так почему же я не ухватился за шанс завладеть ею навсегда? Это было осуществимо. То или иное расторжение моего брака было достижимо, пусть хлопотное и грязное. Но Луиза и Венеция были связаны слишком неразрывно. Любовь и город переплелись, я не мог вообразить их друг без друга, и, думаю, мои колебания и сомнения родились из смутного осознания моей нарастающей оцепенелости. Маркиза не ошиблась: Венеция походила на осьминога, который медленно, украдкой опутывал беспечные жертвы своими щупальцами, пока из них уже не вырваться. Лонгмен никогда не уедет; Корт, возможно, тоже. В других англичанах, которых я встречал в тот период, я научился распознавать чуть заметную пустоту выражения зачарованных людей, загипнотизированных светом, потерявших силу воли, покорно отказавшихся от нее, будто спутники Одиссея на острове лотофагов.