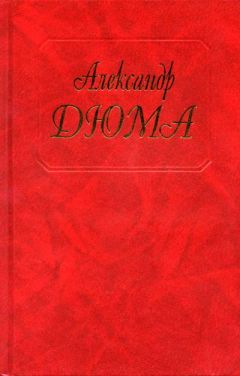Гийом, вновь зажав губами не зажженную, но плотно набитую трубку, скрестил руки на груди и приготовился слушать.
— Потому что, если бы Бернар мог жениться на мадемуазель Эфрозине, а Парижанин — на Катрин… — продолжала женщина, оборвав фразу на самом захватывающем месте по всем правилам ораторского искусства, в знании которого ее трудно было заподозрить.
— Ну, так что ты сделала? — спросил Гийом, вовсе не собиравшийся поддаваться на ее ораторские уловки.
— В тот день, — продолжала Марианна, — папаша Гийом должен будет признать, что я не бекас, не гусыня и не журавль!
— О, это я признаю прямо сейчас: бекасы, гуси и журавли — птицы перелетные, а ты вот уже двадцать шесть лет меня выводишь из себя каждую весну, лето, осень и зиму!.. Ну, говори же! Что ты сделала?
— Я сказала господину мэру, который расхваливал мое фрикасе из кролика: «Что ж, господин мэр, завтра у нас двойной праздник: сельский праздник в Корси, мы ведь его прихожане, и семейный — возвращение моей племянницы Катрин. Приходите к нам с мадемуазель Эфрозиной и господином Луи Шолле отведать мое фрикасе. А после обеда, если будет хорошая погода, сходим вместе на праздник в Корси».
— И он, конечно, согласился? — спросил Гийом, так стиснув при этом зубы, что его носогрейка уменьшилась еще на два сантиметра.
— Без всяких церемоний!
— Ах, старая аистиха! — в отчаянии вскричал Гийом. — Ведь знает, что я видеть не могу ее мэра, что я не выношу ее ханжу Эфрозину, что я за целое льё обхожу ее Парижанина! И вот она приглашает всех их ко мне на обед! И когда же? В день праздника!
— Но, в конце концов, — сказала мамаша Ватрен, испытывавшая явное облегчение после признания в своем поступке, — теперь они уже приглашены.
— Вот именно, приглашены! — в бешенстве повторил Гийом.
— Нельзя же теперь отменить приглашение, правда?
— К несчастью, нет! Но я знаю кое-кого, у кого этот обед застрянет в горле или, скорее, он его вообще в рот не возьмет… Прощай!
— Куда ты?
— Я слышал, как стреляло ружье Франсуа, хочу посмотреть, убили ли кабана.
— Отец! — умоляюще сказала Марианна.
— Нет!
— Если я была не права…
И бедная женщина умоляюще сжала руки.
— Ты была не права!
— Прости меня, Гийом, я все делала с добрыми намерениями.
— С добрыми намерениями?
— Да.
— Добрыми намерениями вымощена дорога в ад!
— Послушай же!
— Оставь меня в покое или…
И Гийом поднял руку.
— Ах, мне все равно! — решительно сказала Марианна. — Я не хочу, чтобы ты ушел вот так, не хочу, чтобы ты со мной расстался в гневе! Гийом, в нашем возрасте, когда расстаешься, один Бог знает, когда снова свидишься.
И по ее щекам покатились две большие слезы.
Гийом увидел эти слезы. Слезы были редкостью в доме старого лесничего! Он пожал плечами и, сделав шаг к жене, сказал:
— Дуреха ты этакая! Я в гневе из-за господина мэра, а не из-за моей старухи!
— А-а!
— Ну, обними же меня, пустомеля! — продолжал Гийом, прижимая жену к груди и подняв голову, чтобы не повредить свою носогрейку.
— Все равно, — прошептала Марианна (успокоившись насчет главного, она была не прочь поправить еще кое-какие мелочи), — ты назвал меня старой аистихой.
— Ну, и что с того? — отозвался Гийом. — А разве аист не добрый вестник? Разве не он приносит счастье дому, где он свивает гнездо?.. Ну так вот, ты свила свое гнездо в этом доме и приносишь ему счастье, вот что я хотел сказать.
— Послушай, что это еще такое?
До слуха старого лесничего действительно донесся шум повозки, свернувшей с мощеной дороги и остановившейся перед домом. Тут же молодой голос радостно прокричал:
— Папа Гийом! Мама Марианна! Это я! Я приехала!
При этих словах красивая девятнадцатилетняя девушка спрыгнула с подножки двуколки и очутилась на пороге дома.
— Катрин! — в один голос воскликнули лесничий и его жена, с раскрытыми объятиями бросившись к ней.
Да, это и в самом деле была Катрин Блюм, вернувшаяся из Парижа.
Как мы только что сказали, Катрин была красивая юная девушка девятнадцати лет, изящная, стройная, как тростинка, и полная очаровательной нежности, свойственной немецкому типу красоты.
Белокурая и голубоглазая, с розовыми губками, белозубой улыбкой и бархатистой кожей щек, она походила на одну из тех лесных нимф, которых древние греки называли Глицерой или Аглаей.
Две пары рук открыли ей свои объятия, но первым, к кому бросилась девушка, был Гийом. Видимо, она чувствовала, что вызывала у него безоглядную симпатию.
Потом пришла очередь Марианны.
Пока девушка обнимала приемную мать, папаша Гийом удивленно оглядывался: ему казалось невероятным, чтобы Бернар отсутствовал, когда Катрин здесь.
В первые минуты встречи раздавались только отрывистые восклицания, которыми обменивались взволнованные участники ее.
Но тут же послышались другие крики, смешанные со звуками труб: это возвращался Франсуа с товарищами, одержавшие победу над новым Калидонским вепрем.
Старый лесничий колебался несколько мгновений между двумя желаниями: еще раз обнять племянницу и поговорить с ней или же удовлетворить свое любопытство и взглянуть на кабана, судя по крикам и звукам труб находившегося на пути к засолочной.
Но в ту самую минуту, когда папаша Гийом принял решение и отошел от девушки, на пороге появились охотники, державшие кабана, привязанного за ноги к жерди.
При появлении охотников Гийом и Марианна на мгновение забыли о приезде Катрин, а те, напротив, увидев девушку, прокричали в ее честь дружное ура.
Но надо сказать, что, когда первое любопытство было удовлетворено, когда Гийом осмотрел и старую и новую рану кабана, когда он поздравил Франсуа, с шестидесяти шагов подстрелившего кабана, словно кролика, когда, наконец, он посоветовал отделить потроха зверя и взять каждому охотнику соответствующую долю добычи, внимание его целиком переключилось на Катрин.
Франсуа был счастлив увидеть Катрин, которую он любил всей душой, и, самое главное, увидеть ее улыбающейся, ведь это свидетельствовало о том, что ничего страшного не случилось. Франсуа заявил, что он уже достаточно сделал для общего блага, убив кабана, и потому оставляет своим товарищам заботу о разделке туши, а сам посвящает все свое время мадемуазель Катрин.
В результате разговор, едва начатый с приходом Катрин, десять минут спустя возобновился и потек стремительно и шумно, удовлетворяя накопившееся за эти десять минут любопытство присутствующих.
Впрочем, папаша Гийом внес в расспросы немного порядка.
Он заметил, что Катрин приехала не по большой дороге, а по просеке Флёри.
— Почему ты приехала в такую рань и по дороге из Ла-Ферте-Милона, дочка? — спросил он.
Услышав этот вопрос, Франсуа насторожился: он понял, что Катрин, оказывается, приехала не по дороге на Гондревиль.
— Правда, как это ты приехала с той стороны и в семь часов, а не в десять? — удивилась Марианна.
— Сейчас все вам расскажу, дорогой отец, все расскажу, милая матушка, — ответила Катрин. — Понимаете, вместо того чтобы сесть в дилижанс, идущий в Виллер-Котре, я поехала в том, что идет на Мо и Ла-Ферте-Милон, а он отправляется из Парижа в пять часов, а не в десять.
— Вот и хорошо! — прошептал Франсуа, явно довольный новостью. — Напрасно, значит, Парижанин старался со своим тильбюри!
— А почему ты поехала по этой дороге? — спросил Гийом, не понимая, как можно предпочесть прямой линии кривую и зачем без необходимости делать четыре лишних льё.
— Потому что в дилижансе на Виллер-Котре не было мест, — ответила Катрин, покраснев, хотя ложь была совсем невинной.
— Как Бернар будет благодарен тебе за эту мысль, прекрасный Божий ангел! — прошептал Франсуа.
— Да посмотрите же на нее! — воскликнула матушка Ватрен, переходя от общих вопросов к частностям. — Она выросла на целую голову!
— А может, на голову вместе с шеей? — пожал плечами Гийом.
— Но ведь это же очень легко проверить, — настаивала мамаша Ватрен со свойственным ей упрямством, проявлявшимся как в важном, так и в мелочах. — Когда Катрин уезжала, я ее измерила и сделала метку на дверном косяке… А, вот она! Я на нее каждый день смотрела… Поди посмотри, Катрин!
— Не забыла, значит, своего старика? — говорил тем временем Гийом, обнимая Катрин.
— О, как вы можете говорить такое, милый отец? — вскричала девушка.
— Да посмотри же на твою метку, Катрин! — настаивала Марианна.
— Ах, да замолчишь ты со своими глупостями! — топнул ногой Гийом.
— Да уж, — прошептал Франсуа, прекрасно знавший нрав мамаши Ватрен, — постарайтесь, чтобы она помолчала!