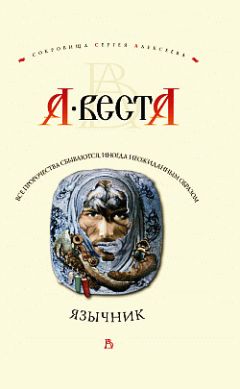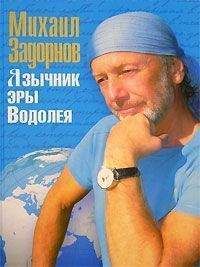Я впервые был в тюремном карцере, узком «стакане» метр на метр. Стены здесь были покрыты бетонной «крокодильей шубой». Шипы царапали даже сквозь одежду. Вдобавок здесь было так холодно, что, разгоряченные дракой, мы сначала дымились, а потом одежда начала леденеть. На полу хлюпала жижа. Под потолком шипела и моргала тусклая лампа.
— Спасибо, друг, — прошепелявил я разбитыми губами.
— Сочтемся, — усмехнулся тот. Сейчас он выглядел старше, чем в первый раз. Ему тоже досталось, на скуле наливался синяк.
— Демид, — я протянул ему руку в «браслете».
Он с некоторым сомнением посмотрел на нее, а потом пожал своей закольцованной рукой.
— За что сел? — спросил он.
— Менты подставили.
— Я так и думал.
— А ты?
— Город чистил железной метлой, да пару прутьев сломал о черно…
— Скин?
— Ага. Наших по камерам раскидали, но блатные нас не трогают. Уважают, наверное. А тебе трудно будет. Они на тебя зуб завели. А мне вот-вот на зону, семь лет париться за «непредумышленное». Я тебе свою заточку оставлю, для себя ныкал.
— Да здесь от холода сдохнуть можно, а потом, стоя только кони спят.
— Ничего, не в первый раз. А ты, если правильно жизнь понял, то и не в последний.
Его бесшабашная, разбойничья удаль передалась и мне.
— Наци, а тебя-то как зовут? — спросил я.
— Зови по прозвищу, Верес… Северная трава такая, вечнозеленая.
— Так, может, Ягель?
— Сам ты ягель. Ты мне жидовскую кликуху не клей… Меня мамка Ильей назвала, так я на Всеслава переписался… В восемь у гапонов пересменка, немного осталось…
— А почему на Всеслава?
— Так захотелось…
Мы встали спинами, прислонившись друг к другу, носками уперлись в стены, согрелись и, кажется, даже задремали, но под утро ледяной холод пролез под одежду и нас начало колотить. Когда-то я был сведущ в русской истории и даже сумел припомнить предание: князь Всеслав родился от волхвования и оттого был на кровь лют и немилостив.
— Откуда ты такой взялся, наци, где тебя замесили?
— Ха-ха, ты правильно заметил. В человеке все решает изначальная природа, кровь.
Так и быть, расскажу, пока время есть. Бабка моя, еще лет шестнадцати, попала в оккупацию, и ее взломал какой-то эсэсовец. А потом он уже к ней по-доброму ходил, семью ее подкармливал. Короче, любовь-морковь… А она еще с соседями делилась. Голод же… Немцев выгнали, а она с пузом осталась. После войны проходу ей не стало от тех же соседей, что немецкий «зальц» за обе щеки хавали. Еще бы, «эсэсовская подстилка», да еще с нахаленком, папкой моим. Отец мой был белым, синеглазым, бабка говорила, крупным был, как кукушонок. От позора бабка аж в Казахстан сбежала, и там с перепугу вышла замуж то ли за казаха, то ли за татарина, и за пять лет нарожала целый выводок, чтобы, так сказать, вину искупить. Дядья и тетки мои все по юртам сидят, кумыс дуют. В человеке все решает кровь. А отец-то по паспорту стал Жуймудинов, это с такой-то наружностью. Я-то поздно у них получился. Потом отец погиб… Ну, чего загрустил? Давай прыгать, а то окочуримся…
Новый день начался для нас с бряцания замка. Дежурный наряда снял с нас «баранки» и отвел обратно в камеру, где без нас случился внеплановый обыск. Во время шмона у чехов изъяли «дурь», у блатных водку и «стосы» и еще десятки необходимых для тюремной жизни предметов. Теперь все были злы на нас.
Около полудня Вересу передали посылку. Его вольные друзья и подруги знали толк в тюремной жизни, и Верес щедро поделился «гревом» с «блатными» и, чтобы немного задобрить хозяина камеры, отстегнул сигарет и продуктов на «воровское благо».
Через неделю Вереса-Всеслава забрали на этап.
— Жуймудинов, на выход!
— Держись, брат, может, еще и свидимся.
Я и сейчас вижу его. Подтянутый, длинноногий, ловко сбитый, в черном спортивном костюме, он обходит камеру. Шаг упругий, молодой, звериный, глаза яркие, веселые. Уже на пороге прощально вскинул правую руку, послал мне ободряющий жест и скрылся за металлической дверью с волчком.
Я понимал, что без поддержки и заступничества Вереса за мою дальнейшую житуху никто не дал бы гроша ломаного. Было видно и слышно, как нетерпеливо ожидает ночи блатная камарилья.
— Ша, отвали, братва… — крикнул откуда-то с верхней полки «вор», хозяин камеры. Я даже лица его ни разу не видел. — К первоходу будут вопросы. Зашкварить пацана недолго…
Камера готовилась к ужину, позвякивала посуда, заключенные сползали с полок и усаживались к столу строго по ранжиру. Есть не хотелось. Меня старались обходить. После ужина мою дальнейшую судьбу должен был решать «общак».
— Встань, старшие базарить будут, — после ужина «мужики», подгоняемые «шестерками», быстро освободили от посуды и вымели стол, и теперь трое заключенных сидели вокруг «дубка». Это были «отцы», равные по масти воры-рецидивисты.
Я поднялся. Я впервые видел Бабая, авторитетного вора, хозяина камеры. Смуглый, похожий на калмыка, узкоглазый и дебелый, как разжиревший атлет, он сидел, опершись о дубок сжатыми кулаками, и вел «правильную» речь. Шея его была настолько могучей, что голова терялась и выглядела досадно маленькой.
— В наш дом родной пришла малява. Уважаемые люди пишут, что ты невинен, как Дюймовочка, и в хату попал случайно, — камера залилась зоологически хохотом. — Так что же решим? Не место тебе в нашем уважаемом обществе и спать тебе «не ближе дальняка». Но, с другой стороны, уважаемые люди пишут, что ты отменный коновал, любой бубон плевком лечишь. А у нас тут что ни болт, то бубон. Значит, будет тебе от нас испытательный срок, не выдержишь, отправим к чушкам. Станешь полезным — будешь и в тюрьме достойно жить.
Вечером «отцы» чифирили. Камера замерла. В углу посапывали, притворяясь спящими, «опущенные», смирно лежали «мужики». «Чехи» держались развязнее, но и они сидели тихо. Главе общака подали высокую толстую кружку, он сделал первый хап и передал кружку по кругу. Чифирь заедали сгущенкой с «белинским», белым батоном, который протолкнул в «форточку» купленный вертухай. К ритуальному чаепитию допускались только достойные, те, у кого была подходящая масть, воры в законе, карманники, медвежатники. Прочее быдло не смело даже взирать на трапезу богов.
Мое осуждение общак признал «солдатской статьей», иначе — милицейской «прокладкой», когда засуживают заведомо невиновного, подкладывая доказательства, и фабрикуя недостающие материалы.
За новое дело я взялся с размахом и энтузиазмом. И вовсе не для того, чтобы заслужить одобрение Бабая. С некоторых пор я был довольно равнодушен к самому процессу жизни и ее качеству. Меня больше заботила достойная, истинно мужская смерть.
Терапевтом я оказался довольно слабым, многое забыл, но через день я все же составил список необходимых лекарств и витаминов, которые заключенные могли заказать в больничке, выморозить у охраны или получить в передачах родственников. «Брикеты» — лекарства в упаковках — выменивались на чай и курево в других камерах, и приходили к нам по веревочным «дорогам» из окна в окно.
Тяжелее всех болели «чехи». Все они были поголовно наркоманы и в услугах «кафира» не нуждались. Однако за порцию «божьей травы» у них можно было выменять с десяток одноразовых шприцов для уколов.
Узнав, что я хирург, Бацилла полностью переменился ко мне и стал заискивающе предупредителен.
— На, док, хайни.
Принято считать, что тюремные законы пишутся подонками. Но это как посмотреть. «Иерархия скверны» просто перевернута по отношению к обычному миру, это параллельная вселенная, со своими доблестями, законами, заповедями, ритуалами, с особым языком, критериями и ценностями, а воровские «авторитеты» вообще обитают по ту сторону добра и зла. Эти «суперзвери» по-своему честны: блюдут корпоративную тайну, чтут воровские законы и живут «положняком», даже в переполненной камере, сохраняя особое достоинство хищника в стаде травоядных. Это людоедское племенное братство. Здесь есть свои, часто необъяснимые табу и свое понятие священного, как «общак» или «слово старших», есть свои опознавательные знаки, символы власти и унижения.
Через месяц меня погнали в «блок», то есть переслали по этапу в отдаленную северную колонию строгого режима. Это была легендарная «Воркутинская Вышка», тюрьма в тюрьме.
* * *
Рядом с флигелем грохнул раскат салюта, стены вздрогнули. Я очнулся, поднял полотенце, положил его на кресло. Кто-то знал о моем прошлом и давал понять, что я под колпаком. Но на сегодняшний день это ничего не меняло. Может быть, эта злосчастная тряпка просто вывалилась откуда-нибудь? Нет, вышколенная прислуга вряд ли роняла полотенца под ноги гостям.
Я принял горячий душ, завернулся в простыни, согрелся и заснул, пока какой-то внутренний толчок не разбудил меня. Все так же розово теплился ночник. Под кроватью валялась моя сумка с шаманским имуществом и книгой Антипыча.